Кризис вербального искусства или бессилие
современного слова
интервью с Виктором Ерофеевым
(август 1995)
С .Р. Каково взаимоотношение между литературой, которую создаете вы и ваши современники, и массовой культурой, которая сейчас привлекает внимание читателя?
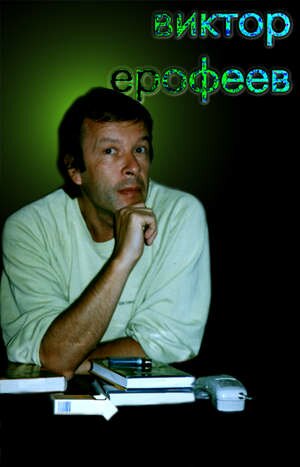
В.Е. Надо сначала разобраться с современниками, теми, кто что-то делает параллельно мне, потому что, со временем, они становятся мне менее интересны. Мои совремнники меня пугают отсутствием вольности, именно даже не свободы, а воли, и своей философской неподготовленностью. Есть вещи, дальше которых они не видят ничего, и мне становится страшновато. Дальше я уже разбираюсь, где есть талант, а где его нет. Есть люди, которых я уважаю за присутствие таланта, потому что без профессионализма здесь ничего не сделаешь, а в нашей профессии главный профессионализм -- это талант. А есть люди, которые меня просто не интересуют.
Что касается масскультуры, то это богатый для меня материал, я ее люблю во всех ее проявлениях, но как любят лягушку, крыс, всяких таких тварей, которых используют для экспериментов. Я люблю все формы этого массового сознания, и они меня интересуют как выражение слабости человеческого духа, экзистенциальной слабости. Но в этом смысле я отдаю предпочтение соцреализму, потому что он отразил нашу человеческую слабость и наши кичевые эмоции необыкновенно сильно. Он сумел передать наше умение любить, умение понимать, наше стермление к соревновательности гораздо ярче, чем это сделал развлекательный роман, детектив или плохой комикс, потому что хороший комикс я как бы не считаю массовым искусством. Я к хорошему комиксу отношусь хорошо, без всякого снисхождения. Все зависит от взгляда на масскультуру. Если смотреть на нее как на объект культуры, то я ее принимаю, если она субъект, то есть претендует на то, чтобы быть культурой, то она мне просто смешна.
С.Р. Но нередко масскультура затрагивает вопросы, которые остаются за пределами интересов элитарной культуры и в том числе постмодернизма. Ваше же отношение к масскультуре -- как к материалу для соцарта, не так ли?
B.E. У меня непростые отношения с элитарной культурой, потому что элитарную культуру, как таковую, я очень не люблю, может больше, чем массовую. И вообще я не люблю ту культуру, от которой дохнут мухи, потому что она очень скучная. Поэтому я очень не люблю модернизм. Я люблю талантливых людей в модернизме, но в принципе мне больше нравится «Три мушкетера» Дюма, чем Дос Пассос. Я и к Мандельштаму отношусь плохо. Я принимаю какие-то приемы его прозы, но разговор на уровне элитарного знания я не принимаю. Поэтому я сам попадаю в заколдованный круг, и понять, что я делаю, не все могут, я не рок-звезда. Но с другой стороны, мне как бы этого и не нужно. Я знаю, что «Русскую красавицу» можно прочитать на семи разных уровнях. Московские таксисты читают ее также, как московские академики -- это меня увлекает. А вот то, что не могут прочитать все, это меня не пугает. Потому что с одной стороны -- Мандельштам, а с другой стороны Маяковский, с которым я себя не хочу отождествлять. Что касается отношения массовой и элитарной культур, то — я тут скажу страшую банальность -- все определяет талант. Те же Дюма, и сын и отец, -- это массовая культура, но это хорошо. Некоторые романы маркиза де Сада это тоже массовая культура, не по смыслу, но по тексту. Хотя я не очень люблю тех людей, которые работают исключительно на уровне маркиза де Сада. Это очень русское -- сначала любим только Ленина, потом Горбачева, а потом -- только маркиза де Сада. Все определяет талант, это какая-то странная наша профессиональная черта.
С.Р. Ваши тексты связаны с переосмысливанием кодов установившихся культур. Но жизнь изменилась даже за последние пять лет: появился новый социальный класс, изменилась политическая обстановка. Тексты соцарта и постмодернизма обращаются к кодам культур, которые уже не только давно ушли, но и не совсем актуальны для современного молодого поколения. Видите ли вы возможность создания другой литературы и культуры, которая бы отражала в самом широком смысле слова новое социальное мировоззрение или новое восприятие экзистенциальной ситуации?
B.Е. Стареет все, важно -- как стареет. Есть искусство, которое хорошо стареет, а есть -- которое плохо. Дело не в кодах -- кто знает всю поднаготную кодов, которые использовали Пушкин в «Евгении Онегине» или Лермонтов в «Герое нашего времени». Есть вещи, которые со временем приобретают такую таинственность, которая сохраняется независимо от обращенности к какому-то коду. Я не работаю в системе насильственной имитации соцреализма, и меня не пугает, что кто-то не понимает этого. Я просто оставляю текст стариться таким, как он есть, и считаю, что, если в нем есть нормальная доза энергии, то с ним будет все в порядке. Что касается молодых, то я всячески приветствую их поиски, но у них что-то не получается ничего. Я боюсь, что у нас тут все закончится не так, как хотелось.
У нас в этом веке было две литературные революции. Первая произошла в серебряном веке -- это был такой мятеж, это -- «Петербург» и несколько хороших произведений. А потом такой мятеж произошел с моим поколением. И здесь были концептуалисты, которые во многом мне близки, и которых я собрал в сборнике «Новая русская литература». Это как бы тоже мятеж.
В отличие от музыки и живописи, литературной революции, по сути дела, не состоялось ни в одной стране. Если я занимаюсь музыкой, то я должен держать в голове все, что сделал Стравинский, Вебер или Прокофьев. Но если я занимаюсь литературой, то у меня есть выбор, и я сам решаю, буду ли я держать в голове то, что сделал Джойс, Белый или Сологуб. Я могу все выбросить. Тем самым, литературное слово не состоялось как факт, а только как факультатив. Я же на стороне мятежа. Я принимаю слово только с мятежными войсками, которые взбунтовались против обыденного банального слова. Но эта тенденция в литературе не победила -- ни на Западе, ни здесь. Мятеж закончился поражением в серебряном веке, и сейчас кончается поражением. За этим поколением идут люди новые, которые опять считают, что литературное слово — это фикция. Это люди, которые считают, что раз они умеют написать письмо маме с папой, то могут стать писателями. Это убьет литературу, потому что литература в системе виртуальных искусств может выжить только за счет своей энергии. Та литература, которую создают сейчас молодые ребята здесь и на Западе, будет уничтожена техникой. У нее не хватает энергии. Она смешна. Если бы литература набрала уровень музыкальной энергетики, ее было бы трудно уничтожить. Литература сейчас находится в словесном болоте. Она погибнет не из-за того, что кто-то чем-то не занимается, а из-за того, что она не нашла своего языка в мировом масштабе. И мы, племя литераторов, подохнем, потому что энергия рока или энергия компьютерной графики перетянет. Человек будет слушать рок с большим интересом, чем читать вялые тексты. Дело в том, что мятеж может когда-то и осуществиться, потому что сейчас действительно над литературой нависает реальная угроза. Слова о том, что роман умер, не банальны, но сейчас умирает слово, потому что этому слову не хватает энергии. Если это слово умрет, то или литература найдет форму и родит свой язык, или она растворится во всем этом процессе. Тогда слово будет работать на музыку, на видео, на кино. Такого периода не было еще до сих пор, но сейчас он может прийти. Это даже видно по советскому примеру. Когда кончилась Советская власть, Союз художников смог создать свою профессиональную структуру. А Союз писателей развалился не по политическим причинам, а в основном потому, что там сидели халтурщики, которые не имели права называться писателями. Таких 95% по всему миру, а оставшиеся 5% пока еще могут чему-то противостоять. Мятеж -- это красивое событие, но литература за ним не пошла и не смогла перестроиться. Тут во многом виноват XIX-ый век. Это те вещи, которые не осознает ни Запад, ни мы. И если мы полностью не осознаем этого, то все постепенно будет отмирать. Наши молодые друзья-писатели нового поколения готовы восхищаться Булгаковым и говорить о том, как у него Маргарита летает по небу. Это дети несчастные. Они попытались пойти за нами, но у нас они увидели только чернуху. Потом чернуха их испугала, потому что чернуха была сказана твердо и определенно. Тогда они повернулись и пошли к приятию жизни. Но можно принимать жизнь по-разному, как в психоделических песнях. Вот, мой новый друг Гребенщиков. Я его люблю за то, что на уровне слова -- ничего, а если все смешается, то -- психоделическое состояние. А литература такого не создает. Может она и опомнится, когда над ней нависнет меч через какое-то время. А если не опомнится, то исчезнет. Были же какие-то искусства, которые отошли...
 НАЗАД НАЗАД
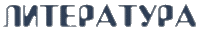
|