- Критика и анализ текста:
-
Игорь Лощилов
ПУШКИНСКАЯ "ОСЕНЬ":
ПОЭТИКА СДВИГА
-
1. "Медицинский дискурс" и поэтика сдвига1
-
В 1924 году вышла брошюра А.Е.Крученых "500 новых острот и каламбуров Пушкина", с саморазрушительной наглостью названная автором "сверх-профессорской десертацией идемонстрацией с'ухабами" (4; sic!). Ловя Пушкина на "неразвитом фонетическом чутье" и "отсутствии поэтического слуха" - наиболее прославившиеся впоследствии случаи "слыхали ЛЬ ВЫ" и "УЗРЮ ЛИ русской Терпсихоры", - Его Зиятельство заявляет: "Может быть все эти сдвиги - лучшее, что есть у Пушкина, и из всего, им написанного, поэты будут ценить только эти словечки, а любимые строчки и стихи будут те, где сдвиги нарушают течение обычных фраз и звуковых рядов, дают странно звучащую речь" (28). Это вполне провокационное утверждение можно было бы счесть достойным внимания лишь как документ, свидетельствующий о футуристической стратегии по отношению к наследию и вкусам "прошляков", особенностях "будетлянской" рецепции Пушкина и своеобразной "ревизии" классики. Кроме того, скандальная брошюра напрашивается в качестве источника некоторых вполне осознанных экспериментов со сдвигами у Маяковского, например. Так, целому "параду" рыб в стихотворении "Мелкая философия на глубоких местах" (1925) предшествует "сдвигологическая" манифестация слова: "Ем, пишу, от жаРЫ БАлда..." Вряд ли подобный ход был бы возможен без отчетливого филологического, психологического и эстетического понимания природы сдвига у Крученых и его единомышленника "конструктивиста А.Н.Чичерина": "несовпадение метра с лексикой слова - имманентные причины сдвига в стихе" (10). "Ценность сдвига заключается в его смысловой ускользаемости, в том, что в нем нет врастания, как это наблюдается в центроустремленном, устойчивом комплексе - в 'слове'; [...] сдвижное слово всецело зависит от произвольной точки внимания и потому - диалектично; произвольная смена главного слога меняет смысл и несет новое слово, не имеющее 'природной' независимой двусмысленности."2 (53-54)
-
Из текста пушкинской "Осени" Крученых извлек всего одну строку "Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", снабдив её далеко не самым эффектным "сдвигологическим" комментарием: "дамухи=дамы?" Нам показалось, однако, что в поэтическом мире пушкинской лирики 1833 года, где "всё взаимопроницаемо и границы между структурными элементами принципиально размыты" (Чумаков 1999, 336), "структурная эластичность" (337) достигает границ "центроустремленного" слова, а опознание и интерпретация "сдвижных" слов позволяет выйти на глубинные семантические слои.
-
Во второй половине предпоследней (а фактически последней), XI, строфы происходит своего рода "коллапс" (Чумаков 1999, 280) художественного пространства, который может быть уподоблен ветхозаветному потопу, "залившему" среднерусский ландшафт предшествующих строф; мифологическим субстратом образа корабля, недвижно дремлющего в "недвижной влаге", является тогда образ Ковчега спасения в качестве метафоры творческого акта. Метафора носит катастрофический характер: если позволительно вспомнить "Исследование ужаса" Леонида Липавского, мы попали в финале "Осени" "в стоячую воду": "Это сплошная вода, которая смыкается над головой, как камень. Это случается там, где нет разделения, нет изменения, нет ряда". (Липавский 1998, 79) "Стоячая вода" в философском аппарате Липавского связана в первую очередь с античным Паном и "паническим ужасом". В поэтическом лексиконе Пушкина, как известно, одним из выражений идеи абсолютного ужаса стал образ чумы.
-
Итак: "Но ЧУ! - МАтросы вдруг кидаются, ползут [...]" Вместе со "сдвигом", возникшим на стыке стоп, можно увидеть здесь и вполне "футуристический" эксперимент с пунктуационными знаками (! - ), рассекающими слово (ср. опыты Валентина Парнаха в сборнике "Словодвиг", связанные с "прививкой" русскому стиху испанской пунктуации, или авторский вариант написания фамилии "Чьи!черин"). Такое обращение с пунктуационным знаком и выделяет криптограммируемое слово, и одновременно еще глубже "прячет" его от читателя.
-
Подобная интерпретация могла бы показаться совсем уж грубой и необоснованной натяжкой, если бы в композиционном центре стихотворения не был эксплицирован еще один "клинический случай" - образ "чахоточной девы" из VI строфы, восходящий, как известно, к Музе безвременно почившего поэта Жозефа Делорма, за подставной фигурой которого "спрятался" благополучно переживший Пушкина на три десятилетия Сент-Бёв (1804 - 1869): "[...] сию прелестную картину оканчивает он медицинским описанием чахотки; муза его харкает кровью [...]" ("Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme. Les consolations. Poésies par Sainte-Beuve", 1831). В той же рецензии Пушкин вспоминает о гиатусе3 (зияние, "встреча" гласных на стыке слов) и элизиуме (пропуск гласного, оканчивающего слово, перед гласным, начинающим следующее) - явлениях латинского и французского стиха, подобно "сдвигу", локализующихся на словесных границах и воспринимаемых "слухом", а не "на глаз". В "Сдвигологии русского стиха" приведена графически неточная цитата из письма П.Вяземскому 1823 года (1992, 42), где Пушкин "сдвигологически" мотивирует выбора слова в консонантном, и, как можно предположить, актуальном для Крученых копрологическом, контекстах: "Равна грузинка красотою, но инка кр... а слово Грузинка тут необходимо - впрочем, делай, что хочешь".
-
Стoит вспомнить о своебразной "двойной центрированности" "Осени": если считать, что строф 11, композиционным центром является как раз строфа VI. Если считать, что их всё же 12, середина приходится на "минуту молчания" над "могильной пропастью", предшествующую хрестоматийным пейзажным строчкам "Унылая пора! очей очарованье!"
-
Композиция "Осени" досточно строго подчиняется законам симметрии (Лотман 1996, Непомнящий 1987, Чумаков 1999). Так, спондеи "[...] вонь, грязь" и "Вверх, вниз [...]" точно локализованы в десятых от начала и конца стихотворения (при 12-строфном варианте прочтения) стихах (в одном случае спондеем открывается правое, а в другом - левое полустишие). Читатель и в самом деле должен двигаться вверх - вниз по тексту, не ограничиваясь линейным развертыванием текста от начала к концу. Нет ли смысла поискать семантически значимого "сдвижного слова" близко к началу стихотворения?
-
Фонетическая транскрипция первого же полустишия с учетом стопораздела позволяет расслышать по меньшей мере намек на такое слово: [/\кт'a / БР'УШНЪ / ступ'ил]. Тогда 'сдвижными словами' - наряду с целой центральной строфой - обозначены в стихотворении по вертикали "области поражения" опасных для жизни недугов: живот (брюшнъ)/ холера - легкие/ чахотка - весь организм/ чума (ср. финал строфы VIII). Наряду с растущей из концентризма и симметрии сферической моделью целостности эстетического объекта, "Осень" требует антропоморфной метафоризации.
-
"[...] в моем воображении холера относится к чуме как элегия к дифирамбу."4 ("Заметка о холере", 1831) " "[...] на днях испразнился сказкой в тысячу стихов; другая в брюхе урчит. А всё холера..." ( Из письма П.А.Вяземскому, 3 сентября 1831г.) Семантика "живота", таким образом, глубоко амбивалентна: это локус "нечистого" ("вонь, грязь") и "смертельного" (холера) - и эмбриональное пространство, где вызревает плод (дитя, стихи)5. Но такова же и "чахоточная дева": "пропасть, зев, могила, яма - и лоно, рождение, жизнь" (Непомнящий 1987, 425). В несравненно бoльшей степени относится это к чуме: согласно Антонену Арто, "театр [в пушкинском случае - поэзия; ср. сравнение поэта с чумой в "Не дай мне бог сойти с ума..." - И.Л.], подобно чуме, это кризис, который разрешается либо смертью, либо выздоровлением." (2000, 126). Болезням противопоставлено здоровье ("Здоровью моему полезен русский холод"), укрепляемое безличными (Чумаков 1999, 339) упражнениями в конькобежном спорте в строфе III и верховой ездой лирического героя в IX. В кубофутристическом контексте уместно, может быть, вспомнить в этой связи "Гимн здоровью" Маяковского, восходящий, как известно, отнюдь не к пушкинской "Осени", но к чреватому разрушением и телесной катастрофой великому здоровью Заратустры6.
-
Немногочисленные, но очень точно срежиссированные "сдвигологические" эффекты дополняют материалы анализа графики и каллиграфии поэта (Фомичев 1993). Неощутимый на уровне осознания "медицинский" слой, соотносящийся с профанной семантикой "организма" (прежде, чем слово стало "прозаизмом", оно воспринималось как латинизм и медицинский термин; в рукописи был вариант "Прости<шь> ли ты Виль<гельм> сей латинизм"7) со-противостоит "евхаристическому дискурсу"8, связанному с неназванным телом, жизнь которого в "Осени" попадает в резонанс (в лад) с бытийными и космическими ритмами. Если первый "сдвигологичен" и концентричен, то второй развивается линейно и, как кажется, волнообразно (см. таблицы 1-2; необходимость схематизации не позволяет, к сожалению, выявить более тонкие оттенки смыслов и переклички: киснуть и бродить равно могут быть отнесены и к тесту, и к суслу; сладость также неоднозначна в предлагаемом контексте).
Таблица 1. "Медицинский дискурс""ОРГАНИЗМ" Живот
("брюхо")'сдвижное' слово с "размытой границей" холера (-) Плод (+) Легкие
("pneuma")Строфа VI чахотка (-) Любовь (+) "Целое
организма"четкое 'сдвижное' слово чума (-) Поэзия (+)
Таблица 2. "Евхаристический дискурс"ТЕЛО хлеб : голод вино : жажда Журча еще бежит за мельницу ручей (I) Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены (II) Иль киснуть у печей за стеклами двойными (III) Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи (IV) И, проводив ее блинами и вином (IV) Чредой слетает сон, чредой находит голод (VIII) Легко и радостно играет в сердце кровь (VIII) Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит - то яркий свет лиет,
То тлеет медленно - а я пред ним читаю,
Иль думы долгие в душе моей питаю (IX)9И забываю мир - и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем (X)10 -
За двумя симметричными спондеями во II и XI строфах (как бы нарочно "подставленных" читателю и интерпретатору по принципу 'читатель ждет уж рифмы розы') Пушкин спрятал еще один, до сих пор, кажется, незамеченный (во всяком случае, неописанный): "К привычкам бытиЯ ВНОВЬ ЧУвствую любовь". Энергетика его очень сильна по двум причинам: это единственное место в стихотворении, где подряд следуют три ударных слога, и единственный "мостик", соединяющий правое и левое полустишия; на их стыке можно расслышать и своеобразное "сдвижно-заумное" слово: явновьчу (едва ли не созвучное крученыховскому иркью). Здесь слиты семантика "явленности", циклического "обновления" в природе и человеке, рядом с обломком чумы, отголоском банального созвучия любовь - кровь (внутренняя рифма вновь - любовь, неосознаваемая как раз из-за чрезмерной близости рифмующихся слов и "стеснения" внутри одного полустишия) и корреспонденцией к 3-му стиху строфы II. Кроме того, в качестве "обломка" падежной формы слова бытие входит сюда "отсекаемое" цезурой личное местоимение, а во второй половине "слова" можно расслышать семантику "внедрения" ("вчувствования"; "В своем отношении к языку Крученых парадоксально совмещал два подхода: работал с языком как ученый-естествоиспытатель, а с другой - как средневековый маг и алхимик" - Бобринская 1998, 26. Далее исследователь определяет методологию дешифровки текстов у Крученых как синтез психоанализа и "мистического вчувствования", 34). Ср. интерпретацию хлебниковского неологизма железовут у Маяковского или название фильма Федерико Феллини "Амаркорд".
-
Эта вторая "сердцевина"11 стихотворения расположена чрезвычайно близко к точке "золотого сечения"; отметим, что точно 0, 618 приходится на односложное слово "сон": "Чредой слетает сон" (если принять за единицу 1200 слогов 12-строфного варианта12). Не исключено, что семантическое поле 'сна' как раз и выполняет функцию медиации двух сокрытых под покровами "непринужденного разговора о природе" дискурсивных рядов, незримое присутствие которых сильно "намагничивает" стихотворение13.
-
В заключение (а отчасти и в свое оправдание) приведем цитату из работы американского пушкиниста Сергея Давыдова о "тайнописи" в "Пиковой даме"14: "Имея больше доверия к Пушкину, чем к пушкинистам, я все-таки настаиваю на непогрешимости пушкинской тайнописи. Случайно оброненные Германном слова содержат, по-моему, все три карты, включая туза. Между 3 и 7 таится фонетически ассимилированный туз: "вот что утроиТ УСемерит мой капитал" (Давыдов 1999, 113). Далее исследователь предполагает, что криптография в "Пиковой даме" восходит к "приему закрывания средней карты", и "навеяна самой игрой в фараон" (114). Может быть, поэт интуитивно (и почти за сто лет до Крученых) ощутил возможности приема (и власть над ним) в фантастической новелле с "герметическим" сюжетом, а в "Осени" испытывает его в поэтической практике15.
-
Провокационная "десертация" Зудесника и Зудийцы подталкивает, таким образом, к фактическому осознанию масштабов того "семантического взрыва", который, согласно Ю.М.Лотману, оправдывает "каждое новое прочтение" пушкинской "Осени", если оно окажется способным "расширить и изменить направленность его общего смысла" (1996, 516) и добавить хоть малую толику нового к нашему пониманию причин и природы "скрытого гальванизма" пушкинского шедевра16.
-
Что же касается Алексея Елисеевича Крученых, то в свете изложенного выше он представился вдруг автору настоящей заметки не столько 'Букой русской литературы', сколько её 'Наташей Ростовой' (modo vir, modo femina!), которая, как известно, "не удостоивала быть умной" - к неизменному восхищению романиста и его читателей17.
2. Ритм и строфа: принципы композиции
-
На присутствие суточного цикла в художественном времени "Осени" впервые указал В. Непомнящий: "На это время мы в "Осени" не привыкли обращать внимание - а оно существует. И тоже - не как последовательность часов, а как сутки. Ведь стихотворение начинается утром: "сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей", а кончается вечером ("Но гаснет краткий день"), а точнее - ночью. Таким образом, на "циферблате" "Осени" присутствуют и сутки - опять-таки не эмпирические, а символические." (Непомнящий 1984, 427.)
-
Стоит обратить внимание на то, что смена дня и ночи задана уже в незаконченном отрывке 1828 года, написанном четырехстопным ямбом и носящем скорее "зимний"18, нежели "осенний" колорит. В нем, тем не менее, легко угадываются зачатки написанного пятью годами позже "мнимо незавершенного" стихотворения19:
Как быстро в поле, вкруг открытом,
Подкован вновь, мой конь бежит!
Как звонко под его копытом
Земля промерзлая стучит!
Полезен русскому здоровью
Наш укрепительный мороз:
Ланиты, ярче алых роз,
Играют холодом и кровью.
----------
Печальны лес и дол завялый,
Проглянет день - и уж темно,
И, будто путник запоздалый,
Стучится буря к нам в окно.. -
Здесь заданы уже (порой имплицитно) важнейшие оппозиции и семантические "сгустки", развернутые в поэтическом мире "Осени" (жар/холод, ночь/день [сон/пробуждение], здоровье/[болезнь], увядание/обновление, верховая езда). Если александрийский стих "развился" из "онегинского" ямба уже в "Зима. Что делать нам в деревне?", то строфическая неопределенность подлинного отрывка 1828 года сменилась строгой организованностью мнимого, восходящей к сдвоенным октавам "Домика в Коломне". "[...] произведения, написанные октавами, бывают двух родов: либо все строфы обрамлены однородными рифмами, между строфами чередование не наблюдается (такие октавы впервые применил Жуковский [...], любил их Лермонтов), либо правило чередования охватывает не только стихи, но и строфы. За октавой, обрамленной мужскими рифмами, следует обрамленная женскими и т.д. Впервые их применил Пушкин." (Холшевников 1984, 31; о чередовании октав см. также Гаспаров 1993, 161, Гаспаров & Смирин 1997, Гаспаров 2000, 163 и Илюшин 1988, 137).
2. 1. Александрийский стих и его вариации
-
Пушкинская "Осень" состоит из 11 полных октав, написанных александрийским стихом (6-стопный ямб с обязательным словоразделом после третьей стопы). Мы предполагаем вернуться к вопросу о взаимодействии суточного и годового циклов в художественной концепции стихотворения после более детального рассмотрения особенностей его ритма и строфической организации.
-
Основополагающие закономерности ритмической, синтаксической и композиционной20 организации стихотворения комплексно описаны Ю.Н. Чумаковым: "Ритм стихотворения, взятый сам по себе, не представляет из себя ничего оригинального; в нем выявляют себя обычные законы шестистопного ямба: преимущественная ударность 1-й, 4-й и 6-й стоп, переменная - во 2-й и 3-й и перевес пиррихиев в 5-й стопе. Однако взаимоотношения ритма и синтаксиса создают совершенно различный тип интонации в частях. В первых шести октавах преобладает разговорная интонация; часто полуударяется первый слог; есть сильный спондеический перебой в начале второй октавы, яснее, чем слова, обозначающий душевный диссонанс [...] В октавах второй части ритмический рисунок мало отличается от первой, но всё-таки выделяется плавный ритм седьмой октавы, что, взаимодействуя с длинным синтаксическим периодом, создает особенно приподнятое впечатление." (Чумаков 1999, 342-343). "Длинный синтаксический период" со-противостоит единственному месту в тексте стихотворения, где границы стиха совпали с границами предложения: "Она жива еще сегодня, завтра нет".
-
Небольшой объем текста позволяет наглядно продемонстрировать основные закономерности ритма в виде таблиц, отказавшись от статистических методов исследования "отношения ритмических форм к композиционному целому" (Шатин 1991, 46), восходящих к модели Андрея Белого и неизбежных при серьезном анализе ритмических особенностей романа в стихах или поэмы (44-59).
-
С другой стороны, в нашем случае нельзя пренебречь немногочисленными случаями спондея, которые в "Осени", в отличие от "Евгения Онегина" (Шатин 1991, 48-49), носят, по нашему мнению, безусловный характер. Такие случаи мы обозначили ячейками с горизонтальной штриховкой.
1. Скучна мне оттепель; вонь, грязь - весной я болен; (2, II)
2. Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены. (3, II)
3. Ты, все душевные способности губя, (3, IV)
4. Дни поздней осени бранят обыкновенно, (1, V)
5. К привычкам бытия вновь чувствую любовь; (3, VIII)
6. Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны; (7, XI)
[6*]. <Вы, барышни мои с открытыми плечами, (7, XI)>
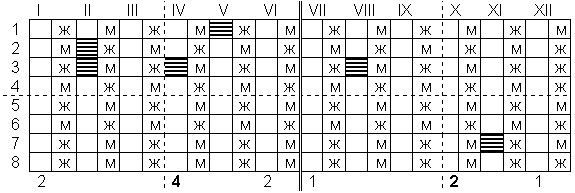
-
Важно отметить еще раз четкую соотнесенность спондеев во вторых от начала и конца стихах строф II и XI: "сильному спондеическому перебою в начале второй октавы", захватывающему два стиха и оба полустишия, соответствует спондей как в окончательном, так и в отброшенном черновом вариантах строфы. Эта симметрическая соотнесенность, безусловно, входила в замысел автора. Стих 3 из октавы IV, не имеющий соответствий в окончательном тексте, опять-таки находит его в "забракованной" строфе: обращенное к лету красному "Ты, все душевные [...]" и "Вы, барышни мои [...]" Синтаксический параллелизм позволяет увидеть семантические связи: лето - барышни, осень - чахоточная дева, зима - старуха; кроме того, оппозиции жар/холод, молодое/старое и единичное/множественое. "Из годовых времен" лишь весна не имеет персонификации (ср. "Вонь, грязь - весной я болен" и строки "Когда везде весна младая/ С улыбкой распустила грязь" из стихотворения "В.Л.Давыдову" 1821 года). Число спондеев во второй половине стихотворения вдвое меньше, чем в первой: в окончательном варианте двум спондеям в первой половине соответствует по одному во второй. "Вескость" последнего ("Вверх, вниз - и паруса [...]; вплоть до этого места, кстати, спондеи были возможны лишь в 1-м, 2-м и 3-м стихах октавы; в 3-м - трижды) связана с семантикой корабля, близостью к финалу и возможностью проекции вертикальных пространственных векторов на композицию самого текста; подробный анализ стиха "К привычкам бытиЯ ВНОВЬ ЧУвствую любовь" и его сердцевины, совпадающей с эмоциональным центром стихотворения, был предпринят нами ранее. Стихи, содержащие спондеи, равномерно распределяются по четвертям и половинам стихотворного текста: 2:2 - 1:1. Четыре сверхсхемных ударения локализованы в 1-х стопах, и два - в четвертых (2-й стих октавы II и 3-й - VIII). Начиная с V октавы стихи, содержащие спондеи, равномерно "спускаются" из 1-го стиха в 7-й в XI.
-
Пушкин употребляет в "Осени" 13 вариантов александрийского стиха. Полноударный:
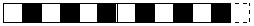
Пять с одним пропуском метрического ударения:
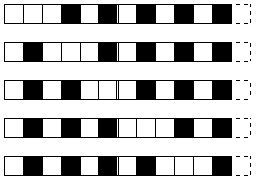
Пять с двумя:
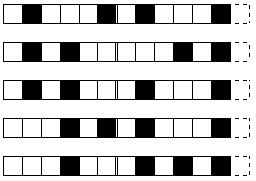
Два с тремя:

-
Полноударная форма не является базовой, но рассмотрение одних только полноударных стихов, а также их распределение в стихотворении позволяет увидеть важнейшие семантические сгущения и закономерности. Это семантика молодости/старости, реализованная в женских образах (подруга/старуха-зима), холода/огня (снег да снег и огонь опять горит [ср. лёд и пламень]), движения (бег саней, идет [рой гостей], плывет), чередований - сна и бодрствования, голода и насыщения, жизни и смерти.
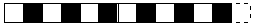
1. Как легкий бег саней с подругой быстр и волен, (II, 6)
2. Но надо знать и честь; полгода снег да снег, (III, 4)
3. Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи, (IV, 6)
4. Она жива еще сегодня, завтра нет. (VI, 8)
5. Чредой слетает сон, чредой находит голод; (VIII, 4)
6. Огонь опять горит - то яркий свет лиет, (IX, 5)
7. И тут ко мне идет незримый рой гостей, (X, 7)
<8.> Плывет. Куда ж нам плыть? (XII, 1<1/2>)
7<1/2>
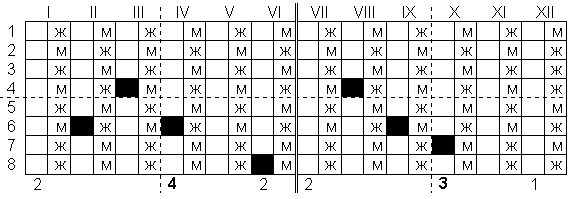
-
Полноударные формы возможны в пушкинской октаве только начиная с 4-го стиха. "История" их во второй половине стихотворения в общих чертах повторяет с небольшими вариациями "историю" в первой: это нисхождение из 4-й позиции в октавах III и VIII до 8-й в VI и 7-й в X. Отсутствие формы роднит строфы I ("осеннюю") и V (возвращение к осени после обзора годового цикла) в первой половине c VII и XI, окольцовывающими вторую. Первое полустишие октавы XII допускает предположение о том, что она могла бы открываться стихом, "уравновешивающим" число полноударных форм в половинах (4).
-
Наиболее частотны формы, содержащие пропуск ударения в 5-й стопе. Рассмотрение соответствующих стихов не даст, как правило, столь отчетливой картины в области семантики, зато позволяет лучше ощутить анатомию пушкинской октавы.
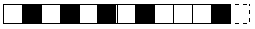
1. Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. (I, 3)
2. Журча еще бежит за мельницу ручей, (I, 4)
3. Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает (I, 5)
4. И будит лай собак уснувшие дубравы.(I, 8)
5. Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены. (II, 3)
6. Люблю ее снега; в присутствии луны (II, 5)
7. Она вам руку жмет, пылая и дрожа! (II, 8)
8. Кататься нам в санях с Армидами младыми, (III, 7)
9. Поминки ей творим мороженым и льдом. (IV, 8)
10. Но мне она мила, читатель дорогой, (V, 2)
11. К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, (V, 5)
12. Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. (V, 8)
13. Приятна мне твоя прощальная краса - (VII, 2)
14. В их сенях ветра шум и свежее дыханье, (VII, 5)
15. И редкий солнца луч, и первые морозы, (VII, 7)
16. Я снова жизни полн - таков мой организм (VIII, 7)
17. (Извольте мне простить ненужный прозаизм). (VIII, 8)
18. Ведут ко мне коня; в раздолии открытом, (IX, 1)
19. Звенит промерзлый дол, и трескается лед. (IX, 4)
20. Но чу! - матросы вдруг кидаются, ползут (XI, 6)
20

-
Отсутствие этой, безусловно базовой (20 из 88 полных стихов - почти четверть), формы в строфе VI (которая содержит целых 5 вариантов шестистопного стиха с пиррихием в 5-й стопе) роднит строки, посвященные странному сравнению осени с чахоточной девой21 и отсутствующую XII строфу. Число их видимо "перевешивает" в нижних половинах октав; в первой части они 4 раза оказываются в 8-й позиции (память об этом отзывается лишь в VIII, зато здесь они заполняют важное двустишие, венчающее строфу). Следует отметить, что в строфе I эта форма составляет половину общего числа стихов, три из них следуют один за другим, создавая некоторую монотонность, подтверждающуюся в последнем стихе. Во второй строфе их 3, каждый из которых точно соответствуют позициям в первой; в 3-м стихе форма "утяжелена" и осложнена спондеем. Далее они дважды встречаются в венчающих октавы III и IV двустишиях, а прежде, чем исчезнуть в строфе VI, равномерно распределяется во 2-й 5-й и 8-й позициях V.
-
Вообще, вторая половина на целую треть "освобождается" от этой формы.
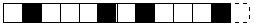
1. Октябрь уж наступил - уж роща отряхает (I, 1)
2. В отъезжие поля с охотою своей, (I, 6)
3. Суровою зимой я более доволен, (II, 4)
4. Ведь это наконец и жителю берлоги, (III, 5)
5. Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; (IV, 4)
6. Как это объяснить? Мне нравится она, (VI, 1)
7. Улыбка на устах увянувших видна; (VI, 5)
8. Унылая пора! очей очарованье! (VII, 1)
9. К привычкам бытия вновь чувствую любовь: (VIII, 3)
10. И звонко под его блистающим копытом (IX, 3)
11. Я сладко усыплен моим воображеньем, (X, 2)
12. Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, (X, 5)
13. Излиться наконец свободным проявленьем - (X, 6)
14. И мысли в голове волнуются в отваге, (XI, 1)
15. Минута - и стихи свободно потекут. (XI, 3)
15
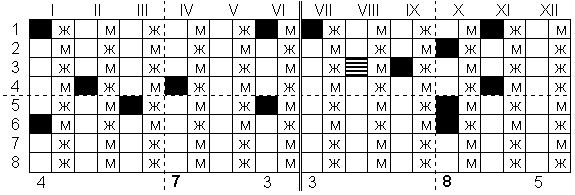
-
Стихи, содержащие пиррихии во второй и пятой стопах, группируются вокруг оси, делящей октаву на два четверостишия, притом, что число их видимо перевешивает в "верхнем" четверостишии. Октавы, содержащие их в первом же стихе, "окольцовывают" половины стихотворения (при 11-строфном прочтении). Скопление их в строфе X позволяют предположить связь с пластикой и семантикой душевного трепета, предшествующего началу творческого акта; кроме того, актуальна связанная с ним семантика жажды - как в прямом, так и в переносном смыслах. В двустишиях CC они не встречаются вовсе.
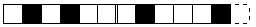
1. И страждут озими от бешеной забавы, (I, 7)
2. Когда под соболем, согрета и свежа, (II, 7)
3. А зимних праздников блестящие тревоги?...(III, 3)
4. Ты, все душевные способности губя, (IV, 3)
5. Дни поздней осени бранят обыкновенно, (V, 1)
6. Красою тихою, блистающей смиренно. (V, 3)
7. В ней много доброго; любовник не тщеславный, (V, 7)
8. Порою нравится. На смерть осуждена, (VI, 4)
9. Бедняжка клонится без ропота, без гнева. (VI, 5)
10. Люблю я пышное природы увяданье, (VII, 3)
11. В багрец и в золото одетые леса, (VII, 4)
12. И мглой волнистою покрыты небеса, (VII, 6)
13. Махая гривою, он всадника несет, (IX, 2)
14. Душа стесняется лирическим волненьем, (X, 4)
14
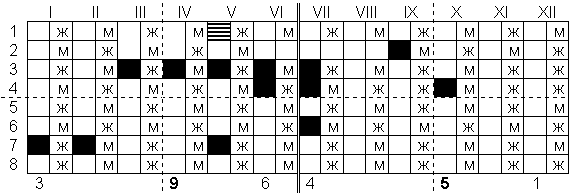
-
Форма с пиррихием в 5-й стопе и дактилической цезурой стабильна в строфах III-VII в позиции 3-го стиха, причем в окружающих срединную ось VI и VII строфах она захватывает и стих 4. После хрестоматийной "пейзажной" октавы, где она захватывает три из четырех центральных стихов, она почти исчерпывается, напоминая о себе лишь в верхних четверостишиях серединных строф второй половины.

1. И, проводив ее блинами и вином, (IV, 7)
2. Как, вероятно, вам чахоточная дева (VI, 2)
3. И забываю мир - и в сладкой тишине (X, 1)
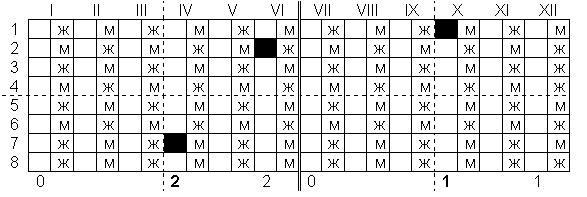
-
Эта достаточно редкая форма явственно связана с амбивалентной семантикой утраты (но и притягательной сладости: в гастрономическом, эротическом, и, наконец, метафорическом смыслах). Она развивается однонаправленно, "поднимаясь" из предпоследнего стиха строфы, открывающей вторую четверть стихотворения, в первый стих открывающей последнюю.
12.

1. И пробуждается поэзия во мне: (X, 3)
1
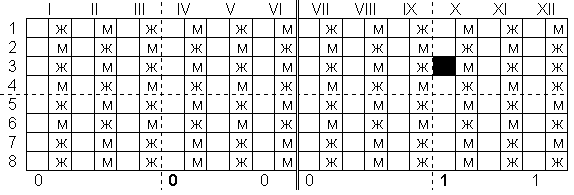
-
Стих, содержащий пиррихии в 1-й, 3-й (предцезурной) и 5-й стопах, не имеет аналогов в пушкинской "Осени", отсылая, разве что, ко второму стиху, в котором число ударных и безударных стоп уравнено (3:3):
Лишь как бы напоить да освежить себя -
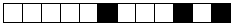
-
Эта отсылка строит мост между семантическими полями сна и жажды, но одновременно и противопоставляет физиологические потребности (ассиметрия и перевес ударений во втором полустишии) духовному процессу (упорядочивание, равномерное распределение и чередование пиррихированных и ударенных стоп [пэан IV?]). Эти раритетные формы встречаются лишь в строфах, открывающих четные четверти стихотворения.
-
Отдельного рассмотрения заслуживают также формы, созидающие дактилическую цезуру (в 2-х случаях они будут "пересекаться" с содержащими пиррихий в 5-й стопе). В пушкинскую эпоху этот "ассиметричный" стих воспринимался как новый, однако он "не вытесняет старого, а сосуществует с ним в ритмической композиции целого" (Гаспаров 2000, 144). Далее исследователь пишет: "[...] в стихотворении Пушкина "Осень" картина действительного мира в начальной строфе выдержана в четком старом симметричном ритме, картина воображаемого мира в предпоследней (черновой) строфе - в зыбком новом ассиметричном ритме, а промежуточные строфы усиливают то один, то другой ритм."
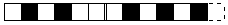
1. Скучна мне оттепель; вонь, грязь - весной я болен; (II, 2)
2. Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек! (III, 2)
3. Ох, лето красное! любил бы я тебя, (IV, 1)
4. Могильной пропасти она не слышит зева; (VI, 6)
5. Легко и радостно играет в сердце кровь, (VIII, 5)
6. То тлеет медленно - а я пред ним читаю, (IX, 7)
7. Иль думы долгие в душе моей питаю.(IX, 8)
8. Знакомцы давние, плоды мечты моей. (X, 8)
9. И рифмы легкие навстречу им бегут, (XI, 2)
10. И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, (XI, 3)
10
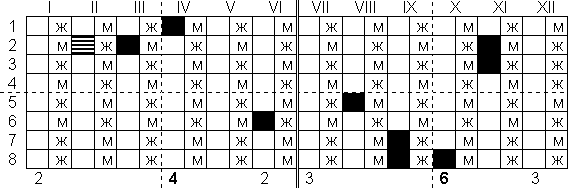
-
Условная "кривая", показывающая распределение этой формы, напоминает синусоиду. В первой половине такие стихи локализованы в основном в верхних четверостишиях (единственное исключение - Могильной пропасти она не слышит зева в VI); в второй - в нижних (могильной пропасти здесь противостоит удвоение формы в строфе XI: И рифмы легкие навстречу им бегут/ И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, сопоставление которой с удвоением в строфе IX воссоздает оппозицию чтение/письмо). Число их во второй половине возрастает на 50%. Эффект этой формы зависит и от места строфе. Если впервые дактилическая цезура появляется в предпоследнем стихе строфы I, то к строфе VIII читатель привыкает к ней и перестает воспринимать как неожиданность. Тем не менее, Легко и радостно играет в сердце кровь, бесспорно, является сильным, эффектным и неожиданным стихом: ни до, ни после него стих с дактилической цезурой не занимает 5-го, окрывающего вторую половину, места в октаве. (4-й стих так и остается вакантным вплоть до черновой редакции последней октавы: "Иль скалы дикине Шотландии печальной".)
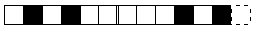
1. И с каждой осенью я расцветаю вновь; (VIII, 1)
2. Громада двинулась и рассекает волны. (XI, 8)
2
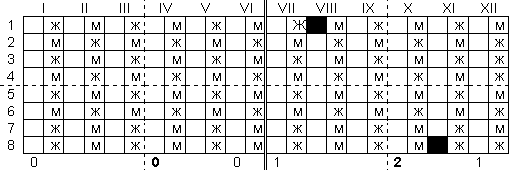
-
Форма, где удвоенное ослабление возникает на стыке полустиший, встречается только во второй половине стихотворения, перемещается из 1-го стиха VIII октавы в фактически последний полный стих и служит "общим знаменателем" венчающей "Осень" величественной картины и ежегодного осеннего "воскресения" лирического героя".

(Комментарий см. выше)
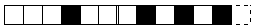
1. Так нелюбимое дитя в семье родной (V, 4)
2. И отдаленные седой зимы угрозы. (VII, 8)
2
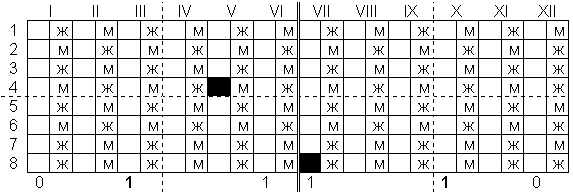
-
Соположение двух стихов с пиррихиями в 1-й и 3-й стопах позволяет увидеть соотнесенность двух персонификаций: дева/ нелюбимое дитя и осень/ отдаленный призак старухи-зимы.
-
Наконец, осталось рассмотреть стихи, содержащие по одному пропущенному ударению в 1-й, 2-й и 3-й стопах.
-
1

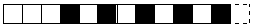
1. Из годовых времен я рад лишь ей одной, (V, 6) -
-
Эта форма встречается лишь один раз - перед кодой строфы V.

1. Последние листы с нагих своих ветвей; (I, 2)
2. Как весело, обув железом острым ноги, (III, 1)
3. Медведю надоест. Нельзя же целый век (III, 6)
4. Играет на лице еще багровый цвет. (VI, 7)
5. Здоровью моему полезен русской холод; (VIII, 2)
6. Желания кипят - я снова счастлив, молод, (VIII, 6)
7. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, (IX, 5)
8. Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны; (IX, 7)
8
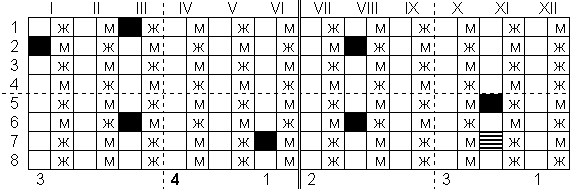
-
Стихов, реализующих эту форму шестистопного ямба, могло бы хватить на целую октаву. Двойное употребление их объединяет строфы III, VIII и XI (конькобежный спорт, верховая езда и плавание на корабле), что позволяет связать их с семантическим полем движения. Кроме того, непредсказуемое для читателя появление образа корабля в катартическом финале стихотворения "подготавливается" комической неожиданностью появившегося в строфе III медведя, в свою очередь, подготовленного в предыдущем стихе фонетически (частица с уступительным значением омофонична части составного корня эвфемического по происхождению слова медведь, и целому корню глагола с семантикой знания: ведать):
ВЕДЬ это наконец и жителю берлоги,
МедВЕДю, надоест. -
[И. Г. Терентьев расслышал аналогичную перекличку сквозь текстовую толщу "Евгения Онегина": "У Пушкина Татьяна в начале говорит о своей влюбленности так:
Мне тошно милая моя
Я плакать, я рыдать готова, -
А в конце романа, говоря о том же, она повторяет ту же звучащую суть влюбленной:
Всю эту ветошь маскарада.
-
(Мой приятель уверял, что, когда он влюблен, его поташнивает). (Терентьев 2001, 22)]
-
Кроме того, дремлющий и пробуждающийся корабль неожиданно связывает образ медведя с семантическим полем сна/пробуждения, которое в каноническом тексте разворачивается в 6 модусах:
1. (Эпиграф) Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
2. (Природа) И будит лай собак уснувшие дубравы.
3. (Медведь) Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю надоест. Нельзя же целый век
4. (Поэт) Чредой слетает сон, чредой находит голод;
5. (Поэт/Поэзия) Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
6 . (Корабль) Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу!- матросы вдруг кидаются, ползут
<7> <...> Египет колоссальный,
Где дремлют вечности символы, пирамиды <...> (Цит. по Фомичев 1993, 48.) -
В самом деле, медведь, в отличие от лирического героя, спит и пробуждается, подчиняясь не суточному, но годовому циклу. Кроме того, строки, посвященные медведю, отсылают сразу к двум важнейшим текстам Пушкина, и эта связь позволяет уточнить наши представления о генезисе формы "Осени". Во-первых, это медведь из сна Татьяны в романе "Евгений Онегин" (см. Чумаков 1999, 195-217); во-вторых - начало поэмы "Домик в Коломне". "[...] в первой же строке заявлен решительный поворот в сторону от прежнего пути: "Четырестопный ямб мне надоел"... [Ср. "Ведь это наконец и жителю берлоги/ Медведю, надоест." - И.Л.] Правда, речь идет всего лишь о смене ритма, а отрицание, как всегда у Пушкина, одновременно является и утверждением. Заявленная смена ритма заставляет вспомнить, что все предшествующие поэмы написаны четырехстопным ямбом. И огромная лирическая увертюра "Домика в Коломне" с его легковесной проблематикой (стихотворная техника) есть огромное nota bene, обязывающее помнить: сменился ритм, произошло громадное событие в жизни пушкинского стиха (в поэзии "простой перебой, смена размеров есть величайший содержательный момент. Это - диалог ритмов бытия." (Худошина 1987, 69-70.) Если в "Онегине" медведь является своеобразным "дублером" главного героя, то в "Осени", кажется, отчетливей связь с образом автора. О родстве "Осени" и "Онегина", ссылаясь на Н. Л. Степанова (и развивая его мысль в неожиданных направлениях), пишет Ю. Н. Чумаков (1999, 337-338, 340-342, 344). Статья Ю. В. Шатина завершается мыслью о том, что "любой читатель "Домика в Коломне" встает перед дилеммой: или, подчиняясь однокодовой интерпретации, он должен прочитать его как шутку гения, или, основываясь на принципе языкового плюрализма, увидеть в нем аналог романа". (Шатин <рукопись>, 13) О "Домике" как автопародии создателя "Онегина" пишут также М.Л. Гаспаров и В.М. Смирин (1997). Тогда можно предположительно судить о линии, соединяющей роман в стихах (1823 - 1831), шуточную поэму (1828) и стихотворение-отрывок (1833), при всей их несоизмеримости. С катастрофическим для жанра романа сокрашением объёма текста22 растет стопность (4 - 5 - 6) пушкинского ямба23; одновременно происходит "сжатие" онегинской строфы до "тосканской октавы" (Гаспаров 1993, 161) в "Домике" и "Осени"24. Онегинская же строфа - "вершина русского строфотворчества" (Илюшин 1988, 147-154) - сохраняет композиционные особенности, восходящие к сонету итальянского и французского типов: "Поскольку строфы сонета имеют неровное количество стихов, седьмой и восьмой его стихи, то есть середина стихотворения, зачастую противопоставляется целой системой соответствий и контрастов шести начальным и шести финальным стихам. Говоря словами Хопкинса, это симметричная трихотомия, отличная от деления на строфы, может быть названа контрапунктом, необходимым любому стихотворению." (Якобсон 1987, 88) Пятистопные октавы "Домика в Коломне" и александрийские "Осени" наследуют во внутренней форме принцип симметричной трихотомии, распространяя его как на другие уровни организации текста, так и на его целое.
-
Если сон Татьяны можно интерпретировать как стихотворную новеллу и "плотное ядро внутри свободного текста" с условно очерченными границами (Чумаков 1999, 199), текст "Осени" также относится к возможному, но ненаписанному Пушкиным роману, как "купол к пустым небесам" в восьмистишии Мандельштама. "Осень" не содержит, кажется, ни единого "булавочного прокола"25 (198) между этим гипотетическим романным текстом и чистым лирическим нарративом; в то же время, семантический взрыв финала, о котором пишет Ю.М.Лотман, представляется в свете сказанного мощной семиологической "воронкой"26, работающей в обоих направлениях.
-
Еще один любопытный ряд соответствий. В 1825 году Пушкин пишет о первой главе "Онегина": "Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено" (см. Непомнящий 309-358) Автокомментарий к черновым строфам "Домика" гласит "Сии октавы служили вступлением к шуточной поэме, уже уничтоженной". "Осень" занимает парадоксальное положение между уже уничтоженным и еще не написанным. Здесь, как отмечает В.Непомнящий, "описываются необходимые условия для творчества" (1984, 410). После "Минута - и стихи свободно потекут" стихотворение могло бы быть зациклено, как сказка про белого бычка (воображаемый диалог: "Какие, собственно, стихи?" - "А вот какие: Октябрь уж наступил..."). Таков герой эпопеи Пруста в интерпретации Ролана Барта: "Избрав рассказчиком не того, кто нечто повидал и пережил, даже не того, кто пишет, а того, кто собирается писать (молодой человек в его романе - а впрочем, сколько ему лет и кто он, собственно, такой? - хочет писать, но не может начать, и роман заканчивается как раз тогда, когда письмо делается наконец возможным) [...]" (Барт 1989, 386) Из смыслового зазора между еще и уже и растут, "прорывая" потенциально заложенненную непроницаемость "Осени", четыре с половиной стиха, посвященные корабельной метафоре. Первая половина стихотворения заключена между еще бежит и уже застыл в первой октаве (Непомнящий, 1984, 398) и "Она жива еще сегодня, завтра [уже - И.Л.] нет".
-
Отмеченные выше оттенки семантики сна/пробужения вместе с параллелью со сном Татьяны, которая "дублирует функцию автора, творя, подобно ему, из внутренних ресурсов своего сознания свой сон" (Чумаков 1999, 200-201), позволяют спроецировать на образ нарратора в "Осени" рассуждения одного из оригинальных представителей аналитической философии Н.Малколма: "Научиться пониманию сновидения - значит научиться воспринимать повествование проснувшегося человека в прошедшем времени. О говорящем тоже нельзя сказать, что у него есть представление о понимании сновидения, до тех пор, пока он не отдает себе отчет в том, что его повествование надо рассматривать подобным образом. Говоря шире, ему было бы не ясно, рассказывает ли он сон, сообщает ли о событиях, происшедших, по его мнению, за день до этого, придумывает ли рассказ или что-либо подобное." (Малколм 1993, 131) Лирический герой "Осени" в свете приведенной рефлексии предстает как "бодрствующий спящий" (Непомнящий 1984, 394 - в связи с непреднамеренным оксюмороном, возникающим в ремарке "Ночь. Келья Чудовом монастыре. Отец Пимен, Григорий спящий" из "Бориса Годунова"), рассказывающий о своем сне. В контексте философских и эстетических концепций XX века соотношение "плотного ядра" с возможным текстом ненаписанного романа могло бы быть увидено как метафора отношения Текст - Мир27.
-
Кроме того, есть, кажется, основания (хоть и довольно зыбкие) вспомнить в связи с медведем из "Осени" о начатой в Болдине тремя годами раньше "Сказке о медведихе". Если принять за единицу окончательный текст (1107 слогов), "золотое сечение" придется на пиррихий в 5-й стопе стиха "И яркий солнца луч, и перВЫЕ Морозы". "Вынырнувшее" при этом из потока поэтической речи "сдвижное слово" можно связать с глаголом вынимать, в можно - с травматической строчкой "Сказки о медведихе". Кризис воплощения странного замысла сказки наступил после строчек "Все-то еж он ежится,/ Все-то он щетинится" (в одной из сносок к тексту первой главы мы обращали внимание на сдвижные слова в стихе "ТрепеЩЕТ И звучит, и иЩЕТ КАк во сне"). В рукописи, "вероятно, как знак этого (того, что работа над стихотворением закончена - И.Л.) в верхнем правом углу рисуется свернувшаяся в спираль улитка. Выше имеется еще какой-то густо заштрихованный подсчет и рисунок секиры." (Фомичев 1993, 50.) Обобщения по поводу этой параллели ("Осень" и "Сказка о медведихе") мы предпочтем оставить читателям, более искушенным в психоаналитических интерпретациях поэтических текстов (см., например, Ермаков 1999 и Смирнов 1994). В анализируемом стихотворении немало, видимо, неосознанного - не только для ряда поколений читателей, но и для самого поэта. Создается, впрочем, впечатление, что нет в нем и ничего случайного.

1. Теперь моя пора: я не люблю весны; (II, 1)
2. Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. (IV, 2)
3. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом (IX, 5)
3
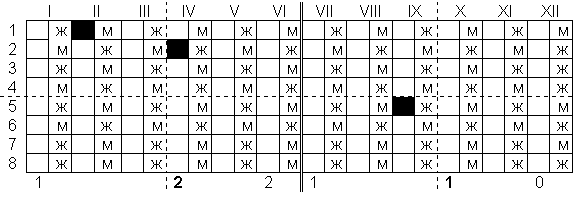
-
Форма связана с семантикой жара (тепла: весна, лето, огонь), а ее "нисходящая" судьба противостоит судьбе формы с пиррихиями в 1-й и 5-й стопах, описанной выше и связанной с холодом утраты. Вместе они как бы "перекрещивают" корпус "Осени".
2. 2. Стопа и полустишие
-
Прежде, чем предпринять обобщения, касающиеся анатомии октавы и целого композиции "Осени", следует переместиться с уровня стих/фраза, на котором мы пребывали, анализируя формы александрийского стиха, на уровень стопа/слово.

-
Развитие "сюжета" пропущенного ударения в 1-ой стопе достаточно спокойное. В первой четверти стихотворения их нет вовсе; в VI строфе они встречаются в 5-м и 7-м стихах, в V эта "парочка" смещается на один стих вверх строфы; в VI всего один такой пиррихий во 2-м стихе. Начиная со строфы VII "сюжет" с единственным отклонением ("И отдаленные [...]" в последнем стихе открывающей вторую половину стихотворения октавы) возвращается к собственному началу и как бы хочет в общих чертах "повторить" путь, пройденный в I-VI: пара пиррихиев, разделенных одним стихом, "воскресает" в первой строфе последней четверти; однако в следующей строфе, вместо повторения или смещения встречаем спондей, корреспондирующий к строфе II уже по принципу симметрии, а не "параллельного переноса", - как в линейном, так и в вертикальном развертывании строф.
-
Вслед за первой стопой логично будет проследить "сюжет" 4-ой - открывающей вторые полустишия. Она еще более стабильна - три случая употребления пиррихия в первой половине и три во второй (о двух спондеях в этой позиции было сказано выше); в строфах I, III, V, VI, VII (три серединные) и X их нет вовсе. Пропуски ударений появляются строго по диагонали - сверху вниз. Но и здесь есть два исключения28: "Лишь как бы напоить да освежить себя", открывющее вторую половину строфы IV, и "И с каждой осенью я расцветаю вновь" в 1-м стихе VIII. В 5-х стихах октав IV и IX находит воплощения оппозиция жар/холод. Вплоть до октавы IX пиррихии встречаются лишь в "мужских" октавах. В "мужской" VI эта позиция тоже строго ударна. Опять мы видим тенденцию к линейности и симметрии одновременно.
-
2-я и 5-я стопы - середины полустиший, они наиболее подвержены освобождению от ударения; во втором случае, перед константным ударением в 6-й стопе ударность уже становится минус-приемом. Распределение пиррихиев в второй стопе наиболее произвольно, однако можно проследить нисходящую линию в октавах I-VI восходящую в VII-XI. А вот "судьба" пиррихиев-"двойчаток" в первой половине повторяется во второй: I - 1,2; III - 5,6; IV - 4,5 ("средние"; в строфе V - единственной во всем стихотворении - нет ни одного пиррихия во 2-й стопе); VIII - 2,3; X - 5,6 и XI - 4,5. Эта пара, дважды перемещаясь с пропуском одной строфы на 3-4 ступени вниз, в следующей строфе делает один шаг вверх. "Одинарный" поднимается из 6-го стиха I в 4-й II, в III встречается с "двойчаткой" и "охватывает" строфу сверху и снизу, и, прежде чем натолкнуться на глухую стену ударных слогов в V, "стягивается" в IV к середине строфы. Во второй половине "одинарный" из 1-й позиции в VII сначала прыгает на 5 стихов "вниз", затем "ступеньками" поднимается, а в строфе XI снова встречается с "двойчаткой", и, распределившись по половинам октавы, "удваивается" сам.
-
Картина-негатив 5-х стоп удивительно отчетлива. В первой половине ударения здесь наиболее вероятны в 6-м стихе (5 из 6; во второй их всего два). Бросаются в глаза пары в первых двух стихах октав II-IV, которые зеркально соотносятся с венчающими двустишиями октав IX-XI (которые, в свою очередь, следует мысленно противопоставить отсутствующим ударениям в кодах строф I-V и VIII). В целом развитие проходит здесь полный цикл за 7 полных первых октав. Новый цикл мощно начинается в октаве VIII и в сжатом виде воспроизводит судьбу первого в оставшихся четырех. "Решающий перелом" в середине все той же VIII строфы, о котором пишет В.Непомнящий (1984, 431), суть которого сводится к разделению света и тьмы (дня и ночи) находит материальное воплощение как раз в смене безударных 5-х стоп в "светлой" верхней половине октавы ударными в нижней "ночной".
-
Самой эффектной стопой, безусловно, является предцезурная. При мысленном наложении полустиший друг на друга ей будет соответствовать ударная константа в правом, после которой варьируются мужские и женские клаузулы. Правила варьирования предопределены формулой строфы и после второй октавы на этом уровне у Пушкина нет и не может быть неожиданностей. Предцезурная "клаузула" чередует мужской и дактилический варианты, подчиняясь художественно-пластической логике, а не формуле строфы. Как и в 5-й стопе, отчетливо видно деление: I-VII и VIII-XI. Пиррихии стабильны здесь в 3-х стихах (в трех срединных строфах 11-строфного варианта они захватывают и 4-е), и, причудливо ветвясь, "прорастают" из этой позиции, вверх и вниз, вправо и влево. Дактилические окончания здесь часто приходятся на слова, имеющие особо значимую (часто в плане самоописания текста) семантику29. Из простого построфного подсчета дактилических цезур вытекает один из способов мотивировать причины, по которым Пушкин "бракует" две строфы, одна из которых написана целиком, а другая так и осталась без последнего двустишия. В строфе "Стальные рыцари..." их 6, и такое количество отсылало бы в первую очередь к строфе VII, где их все-таки 4; между тем, следуя симметрической логике, заданной на нескольких других уровнях, строфа XI должна иметь корреспонденции к строфе II, где их всего две. То же и с последней строфой: дактилических слов перед цезурой уже 4 из 6 написанных. Она могла бы быть соотнесена с строфой VII (вместе они хорошо "охватывали" бы вторую половину), но неясно, как тогда быть с симметрической соотнесенностью со строфой I, где все цезуры, кроме одной - мужские.
-
Не вызывает сомнений, что "Осень" изначально мыслилась автором как двенадцатичастная композиция (6+6)30. Эта двенадцатичастность вступает в сложные отношения органического взаимодействия с восьмистишностью октавы, шестистопностью (3+3) александрийского стиха и двустопностью ямба. Так, в театральной системе Михаила Чехова жест на сцене производит на зрителя наибольшее впечатление, если актер держит в уме предел совершаемого движения. "Вы, актер, играя на сцене, творите во времени. Вы продвигаетесь последовательно от начала к концу. Поэтому начало и конец являются объединяющими моментами в вашей игре. Развив в себе путем упражнений способность одновременного переживания этих двух моментов, вы научитесь охватывать роль в целом, со всеми ее деталями и превращениями." (Чехов 1986, 243) "Старайтесь сохранять чувство целого и осознавать начала и концы." (244) "Осень" - пишет В.Непомнящий, - неразъемлемое целое тогда, когда воспринимается как раскрывание замысла, целостного с самых первых строк: первая строфа ("о природе") уже содержит в себе зерно всего, в том числе последних строф ("о творчестве") [...] В замысле уже есть все, от начала до конца; он не начальная точка, а зерно, заключающее в себе весь колос." (1984, 398-399) И еще одна цитата: "Художественный текст как целое является ярко выраженным случаем, где проявляются основные отношения логики, в частности, отношения части и целого. В текстах словесного искусства наиболее полно проявляется антиномический характер таких понятий как сукцессивность31 и симультанность (термины, восходящие к работам Ю.Тынянова 20-х годов. - И.Л.). [...] Симультанность - свойство художественного текста и заключается как раз в стремлении представить часть как целое. В потенции именно значимая часть художественного целого способна дать представление о нем, как бы заместить его некоторыми своими сущностными чертами. Она часть, которая несет информацию о целом." (Шатин 1986, 26). Сама природа александрийского стиха и октавы при взаимоналожении оказывает влияние как на целое, так и на микроуровни. Восходящий к структуре сонета принцип симметрической трихотомии выводит на поверхность две соотнесенности - 6=3+3 ("голова" октавы, ощущаемая в первую очередь как 2+2+2) и 2=1+1 ("хвост", если позволительно спроецировать на связанные с сонетом через "онегинскую строфу" октавы "Осени" соответствующую терминологию). Однако поверхностный "перекос" в структуре 6+2 (более острый, чем в сонете: 8=4+4 и 6=3+3) скрывает глубинную симметрию: 8 = 4 + 4 (сонет - 14=7+7), согласно концепции Хопкинса-Якобсона. Первые два центра связаны с линейностью и сукцессивностью, третий же, становясь, по терминологии Е.Эткинда (1988, 12), осью m (mirror - зеркало)32, - с симметрией и симультанностью. Конфликт и своеобразная "интрига" "Осени" состоят в том, что уже последнее двустишие первой октавы (AbAbAbCC) "хочет", как в зеркале, отразиться в первых двух стихах. Вторая октава уже "хочет" стать "антиоктавой" - AAbCbCbC, а "вынуждена" продолжить и повторить в мужском варианте путь, пройденный в первой: aBaBaBcc. Осуществление этого "желания" тут же привело бы к кризису дискурса (на самом деле он лишь "откладывается", рано или поздно он неизбежен: в строфе XII), но теперь оно "лишь" уходят во внутреннюю форму - как бы в бессознательное или даже фрейдистское оно - пушкинского стиха и слова, сообщая им (разумеется, метафорически) причастность к второму, третьему и так далее измерениям. Эта многомерность и переживается читателем как собственно поэтическое.
-
"Три кита", на которых держится дискурс в пушкинской "Осени" (они же его "лебедь, рак и щука") - 'продолжить', 'повторить' (анафора) и 'отразить, как в зеркале' (анадиплосис).

-
Эта трихотомия содержится, как в зерне, уже в первых четырех стихах "Осени", анализ которых позволит увидеть действие тех же законов относительно вертикальных осей.

-
Если в первом стихе описанная закономерность еще не явлена (зачаток ее видится разве что в неравномерном утроении слогов с Р/Р': [р'у] - [ро] - [р'а]), уже во втором [сл'эд], как в зеркале, отражается в [л'ист]. Этого можно было бы не заметить, если бы уже во втором полустишии не обозначилась симметрия щелевых согласных, два из которых - заднеязычные [х], а третий - среднеязычный [j]. В способе образования звука выявлена симметрия, в то время, как место образования "продвигается" вперед, задавая развитие и линейный вектор. Следующее полустишие "подхватывает" [х], зеркально отображая его уже в другом окружении - [н], [д], [л]. К этому стиху окончательно "прорезываются" три оси симметрии, относительно которых происходят фонические игры и "хороводы" звуков - "большая" после 6-го слога и две "малых": после 3-го и 9-го слогов. Теперь проясняется и ассиметрия в 1-м стихе: первый слог с Р совпал с первой "малой" (в строфе II она найдет и пунктуационно-синтаксическое подтверждение: "Кровь бродит; чувства, ум [...]"33), а два остальных расположились вокруг второй. Не cледует думать, что в тексте "Осени" вовсе нет никаких элементов случайности и произвола; можно утверждать, тем не менее, что их там значительно меньше, чем это обычно кажется. Поэт быстро берет их под контроль, делает функциональными и заставляет "служить" решению поставленной задачи (о смысле которой пойдет речь в следующей части нашего сочинения). Октава, "как жертва, пышно убрана" рукой поэта, с удивительной заботой и умением "увившего" ее невидимые оси гармоническими сочетаниями звуков, как плющом.
-
Во взаимодействии одних только обрамляющих полустишия согласных 3-го стиха можно увидеть конфликт, ведущий к кризису в строфе XII: Д <--> Д / Д <--> Т ([д] <--> [т] / [д] <--> [т]). Стих окольцован взрывными зубными согласными, противопоставленными по звонкости/глухости, и в движении от первого к второму есть момент линейности и развития, в то время как место и способ образования звука задают симметрию. Это кольцо ощутимо лишь на фоне первого полустишия, которое буквально заключено между двумя Д, второе из которых в реальном звучании оглушается; тот же процесс воспроизводится во втором полустишии уже и в графике. "Лебедь, рак и щука", таким образом, действуют здесь в пространстве зазора между графемой и фонемой, столь актуальном в постструктуралистской критике. Речь идет об уровнях, более "тонких" и дробных, чем фонема; звуковой строй "Осени" может (и должен) быть описан в терминах акусма, кинема и кинакема, восходящих Бодуэну де Куртюне (см. Бирюков 1998, 30-43).
-
В следующем стихе закономерности подтверждаются, хотя и менее выраженно. Открывающее стих Ж находит себе соответствие уже в предцезурной стопе и вместе с ним окольцовывает полустишие, в то время как УРЧ неточно отражается в близком к стиховой клаузуле корне слова РУЧей. Если на фоне руч- осмыслить урч- как значимый корень, он попадет в семантическое поле, обозначенное словами вонь, грязь (близкими к этой позиции уже в следующей октаве) и корнем брюшн-34.
-
Те же законы действуют на других уровнях в пределах "четы" октав:

-
Для трех строф ось m будет уже проходить посередине второй, четырех - между второй и третьей, и так далее; и всякий раз можно, как правило, указать "материальный носитель" каждой из трех работающих здесь тенденций - он может быть связан с ритмом, фоникой, синтаксисом или семантикой элементов. Так, "вонь, грязь" (2, II) находит симметрическое формальное соответствие в спондее "Вверх, вниз" (7, XI), а уже следующее за ними "весной я болен" - семантически со-противопоставлено по принципу параллелизма: "Здоровью моему <...>" (2, VIII).
-
Начиная с октавы VII катастрофически продолжающая продвигаться вместе с речью ось m "опрокидавает" строфу I уже в пространство, выходящее за пределы двенадцатичастного замысла. Можно сказать, что это уже мир-без-меня, имея в вижу эфемерную жизнь лирического героя. Так, атрибуты еще более эфемерной чахоточной девы (багровый цвет лица, улыбка на увянувших устах) растворены в осеннем пейзаже строфы VII (В багрец и в золото одетые леса и пышное природы увяданье). Каждый следующий шаг (и каждая серия шагов) в этом пути находится под все более мощным и как бы неощутимым давлением предшествующих шагов, их пар, троек, шестерок, девяток - с одной стороны, и недоступной для мгновенного самообнаружения гармонией замысла - с другой; с третьей - с каждым шагом делается ощутимей дыхание будущего (можно мыслить его как ненаписанные следующие 12 октав романа, из которого извлечен Отрывок). Главный "герой" "Осени" - октава, написанная 6-стопным ямбом (в другой системе отсчета - время, заполненное ее звучанием) - не может быть явлен сразу, однако 11-и строф оказалось необходимо и достаточно для того, чтобы обнаружить - во взаимодействии разных уровней организации поэтической речи - скрытые в нем гармонии и конфликты до конца. Говорящий с самого начала обречен умолкнуть почти что на полуслове, однако в первой половине стихотворения ни он, ни читатель об этом не подозревают. "Спокойному" осеннему пейзажу первой строфы соответствует непринужденная болтовня о прочих временах года, исключающая - казалось бы - возможность трагедии (разве что с соседом-охотником может произойти несчастный случай, да и то вряд ли). "Суровою зимой я более доволен, - говорит лирический герой в средине строфы II, - люблю ее снега."35 А в последнем стихе первой половины следующей легко отрекается от этой любви: "Но надо знать и честь: полгода снег да снег", тем самым незаметно "врезая" еще одну октаву между двумя видимыми и "размывая" их границы36.
-
"Между тем - беспокойство растет" (как сказано совсем по другому поводу у Блока), и с каждой стопой набирает силу невыносимой гармонии, после "фальц-сюжета" о смерти чахоточной девы обретающую все более грозный характер. После строфы VIII, кажется, становится вовсе невозможным ваять "тела" октав, соблюдая заданные изначально закономерности. Поэт, тем не менее, продолжает их формировать. Вместе с тем в сохраняющий связность и "пушкинскую" гармонию и текст последних строф мощно врываются элементы речевого хаоса. Их (строф) красота обретает болезненность и странную предсмертную мощь, заставляющую нас еще раз о вспомнить чахоточной Музе Жозефа Делорма. О.Постнов пишет: "[...] незамеченным проходит контраст между осенью - умирающей девой и лирическим героем. В самом деле, если осень - смерть, то "...с каждой осенью я оживаю вновь" есть скрытая контаминация противоположностей, причем оживление лирического героя настолько реалистично и физиологично, что требует даже извинения ("...извольте мне простить ненужный прозаизм"), поскольку выпадает из общего лирического строя стихотворения." (2000, 171-172) Это, в свете сказанного выше, так, да не так.
3. Время и сдвиг: минута и стихи 37
-
В первой половине стихотворения можно говорить об одном лишь случае сдвига (оборванном на четвертьслове: [БР'УШНЪ]38 - и в этом видится уже залог финального обрыва текста; впрочем, все наблюдения и рассуждения такого рода становятся возможными лишь в свете прожекторов, направленных из второй половины). В седьмой их по-прежнему нет, но начиная со строфы VIII и после явновьчу - сдвижные слова "набухают", вступая между собой и с другими словами, образами и семантическими полями стихотворения в сложные отношения. К пушкинскому (!) тексту становится легко приложимо то, что пишет Б.Шифрин о морфемной волне А.Горнона39: "С одной стороны - эстетика идеально получившегося фокуса: части так прилажены друг к другу, что и шва не заметить, с другой - шарада, погружающая нас в мир речевой спонтанности. Безобидность склеивания (разламывания) - кажущаяся. Растет странность, деформированность, возникают обрывки, фантомы, пришельцы... потому что становится заметна - крупным планом - сама субстанция речепотока. Некоторые композиционные приемы такой игры описаны в японской поэтике: вторая тема, ответвившаяся на базе омонима, не теряется; ее, как бы уходящую в глубины, в дальнейшем актуализуют употреблением неоднозначных (полисемантических) слов и образов, - это ощутимые точки схождения-расхождения обоих потоков.[...] Русский язык мощно фузионен. Не только поли-функциональностью и неоднозначностью флексий и суффиксов, но и тем, что эффект словоизменения проницает слово до корней. Речепоток не линеен. Есть силы относительно дальнодействующие - но не синтаксические. Они действуют между - не обязательно смежными - морфами разных слов (в синтагматическом целом). Эффект похожести последующего морфа усиливает восприятие до отождествления. Эта симметризация - морфологической природы. Возникает квазисинтаксическое отношение, предикативный рисунок которого напоминает круговорот. Как ребенок удостоверяет родство родителей, так родившееся из смежности двух слов новое свидетельствует, что перед нами - морфемная община (или даже семья)."40 [1993, 33-34; у Пушкина, кажется, наоборот: семья (или даже община) - И.Л.]. Если до "Осени" и в первых семи ее октавах41 сходные ситуации возникали у Пушкина спорадически42, то в финальных строфах словесный сдвиг ("подготовленный" строфическими и стиховыми, значительно легче поддающимися вычленению) становится важнейшим элементом поэтики.
-
Воспроизведем целиком 4 последние строфы, чтобы увидеть не только сами сдвиги, но и их распределение в тексте, выделяя жирным шрифтом и большими буквами наиболее отчетливые случаи; в сносках постараемся привести ряды слов, по возможности полно представляющие семантику морфов, слышимых на стыках слов.
VIII.
И с кажд43ой осенью я рас44цветаю45 вновь;
Здоровью46 моему полез47ен русской холод;
К привычкам бытиЯ ВНОВЬ ЧУ48вствую любовь:
Чредой слетает сон49, чредой находит голод;
Легко и радостно50 играет в сердце кровь,
Желания киПЯТ - Я СНОВ51а счастлив, молод,
Я СНОВА ЖИ52зни полн - таков мой организм
(ИзвольТЕ МНЕ53 простить ненужный прозаизм).
IX.
ВедУТ КО МНЕ конЯ; В Р54аздолии55 открытом,
Махая гривою56, он всаДНИка не57сет,
И зво58нко под его бл59 истающим копытом
Звенит пр60омерзл61ый дол, и трескается лед.
НО ГА62снет к63раткий день, и в камельк64е забытом
Огонь опять гор65ит - то яркий свет лиет66,
То тлееТ МЕдлен67но - а я преД НИМ ЧИТ68аю,
ИЛЬДУ69мы долги70е в душе моей ПИТ71аю.
X.
И забываю мир - и в слад72кой ТИШ73ине
Я слад74ко усыплен75 моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне76:
Душа ст77есняется лирическим вол78неньем,
Трепещет и звучит, и ищет, ка79к во сне,
Излиться80 наконец свободн81ым проявленьем82 -
И тУТ КО МНЕ идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты м83оей.
XI.
И мысли в84 голов85е волнуются в от86ваге,
И рифмы ле87гкие навстречу им88 бегут,
И пальцы прос89ятся к перу, перо к90 бумаге,
Минута - и стихи91 свободно потекут92.
Так дремлет нед93вижим94 корабль в недвижНОЙ95 влаге,
НО ЧУ! - МАтрос96ы вдруг ки97даются, п98олзут
Вверх, вниз - и пар99уса надулись, ветра п100олны;
ГРОМада д101винулась и рассекает вол102ны.
XII.
ПлыВЕТ. КУДА Ж103 нам плыть?....
...............................
............................... -
Нелегко будет разобраться в этом хаосе104 - от междометных и звукоподражательных слов (тпру, шасть, цап, цып, на-ка) до целых словосочетаний или даже предложений (Лет нет. Ср. "Нет минут" в "Ответе богов" А.И.Введенского; дни мчит, ночь ума, утаи стихи). Дуткомнеконявр и плодымечтым - фантастические заумные неологизмы, напоминающие скорее морфемную волну Александра Горнона или остибинишверликорнилябинсмит Сергея Бирюкова, нежели "классические" бобэоби или дыр бул щыл. Оппоненты футуризма (С.Рафалович) имели резон, когда подозревали в сдвигологии Алексея Крученых "какой-то всепроникающий яд" и "дьявольский соблазн" (цит. по Бобринская 1998, 25). Чтобы ощутить природу пушкинского "иммунитета" к проискам незваных гостей - имя же им легион - уместно, кажется, вспомнить абзац из "Путешествия в Арзрум", посвященный секте язидов: "В войске нашем находились и народы закавказских наших областей и жители земель недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина, в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее." Великолепный юмор этих строк, как это часто бывает у Пушкина, абсолютно серьезен, и "любопытство" поэта имеет глубокие корни; подтверждение тому - обстоятельное возвращение к теме в финале "Путешествия" ("Заметка о езидах" на французском языке в Приложении).
-
Некоторые из сдвижных слов явно выполняют формальную роль, воплощая уже знакомые нам законы пушкинской октавы. Уткомне отражает коду строфы X в первом стихе предыдущей. Она же (кода) зеркально "отражается" в следующей, XI, но уже точно - стих в стих - и по принципу антитезы: в сдвижных словах тишь и гром. Сдвижные дни отражают друг друга во вторых от начала и конца стихах строфы IX, "сводя" коду с первым двустишием в пределах одной октавы. Еще проще актуализация корней в кодах строф VIII- IX: организм - прозаизм и читаю - питаю. Гамматизм рифм работает на "повторение" (в то время как русской холод во взамодействии со сдвижным льдом - на "отражение"; все вместе хорошо взаимодействует с соответствующими точками в первой половине стихотворения), и сообщает - во взаимодействии с другими уровнями - семантические оттенки: организм связывается с прозой, следовательно, тело - с поэзией; чтение (а значит и письмо) - с питанием. Ярас из стиха 1 в третьем превращается в явно и "пересекает" в важнейшем месте стихотворения цезуру, с тем, чтобы вернуться в стихе 6 на прежнем месте, но уже в виде яснов (в следующем стихе яснов перепрыгивает в первую стопу). Темне в последнем стихе возвращает опять же антитетически к яр в 1-м (в первой строфе есть слабый "толчок" корня: [с/\с'éТМОJ].
-
Многие слова мы вправе связать с планом самоописания: пятясь воспрозводит в горизонтали движение вверх-вниз (вариант начала строфы XII: "УРА.. Куда же плыть?"); ветка, вить - ветвящиеся отношения между элементами и драматургию их органического развития105. Некоторые объединяются по отношению к пластам культурной памяти: античность (Лета, Ника, кентавр, Улисс), продолжая ряд, прекративший эксплицироваться после русских младых Армид; Библия - Ной, кимвал, ясли. Сквозь имя мифологического героя (связь между Улиссом и кораблем не требует оговорки) может "пробрезжить" слово, вступающее в сложные отношения с другими: лис - к последним листам и соседу-охотнику из первой строфы (а через него - к медведю и соболю; к лисице-подьячихе, подьячихе-казначеихе из "Сказки о медведихе"). Некоторые попадают в уже обозначившиеся семантические поля: жара/ холода, тьмы/света, воды, сна, еды и питья. Птица и полет, представленные в тексте разве что образом орудия письма - пера, корреспондируют скорее к рисункам в рукописи (см. Фомичев 1993). Лить, тлеть и таять, вместе с производными, объединяются семантикой исчезновения и утраты. Впрочем, складывается впечатление, что некоторые из сдвигов Пушкин структурировал сам.
-
Оставив в стороне более или менее сомнительные, нечеткие или "оборванные" сдвижные слова, сосредоточимся на "чистых" и бесспорных. Два из них связаны с суточным циклом и чередованием дня и ночи. Между ними - инструмент поэта и псалмопевца:
ДНИМЧИТ
КИМВОЛ (кимвал)
НОЧУМА (ночь ума, но чума) -
Стык безударных слогов в словосочетании лирическим волненьем "рождает" кимвал. В слове же лирический актуализуется лира106, и вместе с ней - мелодическая природа искусства поэзии (античный мелос). Удивительный случай сокрытого "словоупотребления" отсылает к двум местам Священного Писания, являющимся важнейшими составляющими феномена пушкинской "Осени".
-
В новозаветном контексте это Глава 13 "Первого послания к Коринфянам Святого Апостола Павла". Приведем все 13 стихов главы: "1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так-что могу и горы переставлять, а не имею любви - то я ничто. 3.И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею - нет мне в том никакой пользы. 4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6. не радуется неправде, а сорадуется истине; 7. все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 9. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; 10. Когда же настанет совершенное, тогда тo, чтo отчасти, прекратится. 11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, оставил младенческое. 12. Теперь мы видим (как-бы) сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познaю, подобно как я познан. 13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше." Именно в контексте (как-бы) сквозь тусклое стекло предлагаем мы осмыслить стих Иль киснуть у печей за стеклами двойными, а финал - в свете и языки умолкнут. Звукоподражания, междометия и ясли обретают новый смысл и легко мотивируются в свете Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил.
-
Корни всех слов метафоры первого предложения главы107 рассредоточены в тексте приведенных строф: медь звенящая - звенит промерзлый дол, то тлеет медленно; звучащий - трепещет и звучит. Хотелось бы обратить особое внимание на то, что библейская реминисценция так тщательно замаскирована, что присутствует в поэтическом тексте скорее как незримый дух, растворенный в самой плоти стихотворения. Можно говорить лишь об участках текста, где знаки его присутствия сконцентрированы (ибо "дышит где хочет"108). Евхаристическая символика, проведенная через весь текст тончайшей пунктирной линией, "разрешается" вполне мирским или даже комичным (если он опознан среди теней, отбрасываемых словами перо и бумага) пирогом. Творческий акт у Пушкина продолжает оставаться метафорой пресуществления (Непомнящий 1984, 431), не нарушая границы между религией и искусством. Лирический герой целиком принадлежит миру, где мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, а приближение к моменту, когда настанет совершенное оборачивается лавинообразным ростом поэтического; остановка дискурса - прекращение тогo, чтo отчасти.
-
Из текстов Ветхого Завета кимвал в первую очередь отсылает к последним стихам последнего, 150-го Псалма: "3. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и на гуслях. 4. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и на оргaне. 5. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. 6. Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия." В удвоении слова в 5-м стихе видится источник удвоений в тексте "Осени", когда возникает возможность точного совмещения при наложении слов друг на друга: [...] полгода снег да снег, Чредой слетает сон, чредой находит голод, [...] к перу, перо - к бумаге. Повторяющееся слово как бы "набегает" на предыдущее, создавая ощущение складки и сдвига в самой субстанции потока поэтической речи.
-
Внутренний конфликт дискурса "Осени", как в зерне, содержится в экстатическом синтаксисе пятого стиха Псалма. В нем есть линейность (это сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых), параллелизм (оба простых начинаются словом хвалите) и тяготение к инверсии и симметрии (во втором слово кимвал и сопутствующий ему эпитет меняются местами, приближая возможную встречу на границе простых, которой препятствует единоначатие). Эквивалентом разрешения конфликта указанных векторов вне языка будет сам звук кимвала109. Сдвижное слово кимвал, по всей видимости, синекдохически отсылает ко всему тексту Псалтири (мы предпочтем ограничиться указанием на отчетливые пересечения с текстами Псалмов 73 ["Твой день и Твоя ночь; Ты уготовал светила и солнце; Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил"], 89 ["...мы теряем лета наши, как звук."] и отчасти 137 ["Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это"]110).
-
Прежде, чем сосредоточиться на окружающих кимвал днимчит и ночума, выскажем несколько соображений о сдвижной ноге. Слово связано с семантическим полем части тела (об оппозиции тело/организм говорилось в первой главе)111, и имеет ряд "родственников" на поверхности текста: "Как весело, обув железом острым ноги", "И звонко под его блистающим копытом", "И мысли в голове [...]", "И пальцы просятся к перу [...]" Укажем еще два сдвижных слова, манифестация которых воспроизводит затруднение, заминку или растягивание артикуляции: "весеЛО, ОБув": [лöб] (почти молитвенное "протягивание" гласной в слове, отсылающем к телесному верху, в то время как поверхность "указывает" вниз: "обув [...] ноги"). Этому соответствует аналогичный эффект в динамичнейшем месте октавы XI: "вдРУГ КИдаются". Артикуляционная заминка, возникающая при встрече заднеязычных, воспроизводит напряжение, возникающее при выговаривании словесного ряда, как бы прорывающего поверхность связного дискурса. Проведем аналогию с пластикой барельефа и особенно горельефа, где трехмерные фигуры "прорывают" плоскость, "устремляясь" навстречу зрителю. (Первая половина "Осени" тяготеет к словесной графике.) Этот "прорыв" (скачок от с трудом выговариваемого слова к стремительному действию, сопровождаемому междометием) легче ощутить в фонетической транскирпции: [вдРУК К'ИдajуЦЪ П/\лзyт] (руки - цап!)112.
-
"Осень" - еще и своего рода фонический палимпсест: по мере приближения к финалу все чаще и объемнее начинают проступать скрытые под поверхностью звуковые, морфемные, словесные и даже синтаксические ряды. Можно предположить связь с Главой 12 того же Послания, где есть таинственные слова апостола, как бы озабоченного пушкинским вопросом Как это объяснить? (коринфянам): "14. Тело же не из одного члена, но из многих. 15. Если нога скажет: "я не принадлежу к телу, потому что я не рука", то неужели она потому не принадлежит к телу? [...] 19. А если бы все были один член, то где было бы тело?? 20. Но теперь членов много, а тело одно. 21. Не может глаз сказать руке: "Ты мне не надобна"; или же голова ногам: "вы мне не нужны". [...] 27. И вы - тело Христово, а порознь - члены." Для рисунков, изображающих части тела в черновиках "Осени", характерна "разрозненность"; они явно принадлежат разным телам, и не складываются в целостные антропоморфные образы: "[...] далее пишется начало следующейстрофы:
-
Теперь моя пора Мороз
- Полезен Русскому здоровью
-
Опять наступает пауза: знаком ее становится прорисованный внизу профиль мужика с волосами, обрезаннымти в кружок, бородой и усами (очевидно, ассоциация к последней пока написанной строфе). [...] Рядом с росчерками на правом поле прорисовывается две пары ножек в туфельках с перевязью, а слева между строфами - еще одна пара: это вариации на тему жанрового рисунка на смежном поле (там из-под платья сидящей красавицы были видны туфельки: они и рисуются сейчас несколько в иных ракурсах). И, наконец, прямо по написанному тексту прорисовывается оголенная до бедра женская ножка в ботинке, присогнутая в коленке, - как у сидящей женщины на жанровой картинке; там нога скрыта под платьем, видны только носки обуви - может быть, это вовсе не туфельки, а ботинки? [...] Потом вспомнится и мужичок с бородкой - вчерне Пушкин будет долго биться над двумя строчками:
А. И жалуется мне мой староста брадатый,
Что топчет озими он скачкой
Б. И жадуется мне мой староста лукавый,
Что терпят озими от бешеной забавы,
В. И терпят озими от бешеной забавы,
Тревожит лай собак пустынные дубравы -
[...] Голова мужика, появившись на л.82. об. подобно пиктограмме в дальнейшем - на л.83 об. "переводится в слова", которые варьируются, теряя в конечном счете связь с рисунком." (Фомичев 1993, 47-48.) Староста брадатый, промелькнувший в вариантах первой строфы, без сомнения, восходит к стихотворению "Брадатый староста Авдей" 1828 года113; в варианте А. поэт даже не записывает на бумаге напрашиающийся эпитет к слову скачка, рифмующийся с брадатый. Однако в следующем варианте сам староста без экивоков назван лукавым. Усы и борода сообщают профилю христоморфные очертания, тогда как волосы, остриженные в кружок, делают нарисованного человека похожим на Емельяна Пугачева, мыслями о котором был занят Пушкин к моменту начала работы над "Осенью": "Вот уж неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят." (Н.Н.Пушкиной, 8 октября 1833) Через два года, когда история казненного бунтовщика выйдет в свет, Пушкин будет шутить в письме к П.В.Нащокину: "Пугачев сделался добрым исправным плательщиком оброка, Емелька Пугачев оброчный мой мужик! Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего не остается у меня за пазухой, а все идет в долг." (20 января 1830)114
-
Что же касается женских фигур "жанровой картинки"115 - и их "элементов" (три пары ножек [стоп?]) на полях - быть может, поэт рисовал их, обдумывая наилучшее "устроение" и грациозную прелесть будущих октав116, как и непростые, а отчасти и загадочные отношения между ними. (Если в руках одной из героинь сценки и в самом деле письмо - кто и кому его написал?..)
-
В то же время, беременность и прижатое к груди письмо можно интерпретировать как графический и, "как обычно у Пушкина, слегка юмористичный" парафраз образов Псалма 137: "12. Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день; как тьма, так и свет. 13. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. 14. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. 15. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. 16. Зародыш мой видели очи Твои; в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было."
-
Днимчит - один из самых "чистых" случаев сдвига в тексте. От дни связи тянутся к "Последним листам" и к спондею "Дни поздней осени" в первую половину стихотворения, к фантомному звуковому комплексу в слове всадник в начале октавы и к "Но гасенет краткий день" в ее середине. От мчит - ко всем словам, связанным с семантикой стремительного движения: бежит [ручей], поспешает [сосед], бешеная забава - I, бег саней - II, скользить и кататься - III, слетает [сон], находит [голод], играет [кровь], [желания] кипят - VIII, несет [всадника], сдвижные мельк - в IX и шасть в X. По принципу антитезы устанавливается связь с "соседним" полустишием То тлеет медленно, и с глаголами совершенного вида, обозначающими однократные и необратимые действия; их много в первой строфе (наступил, дохнул, застыл), но особенно важна и выразительна корреспонденция к сочетанию Громада двинулась из последнего полного стиха: дни (множественное число; время) Vs. громада (единственное; пространство); мчит (быстрое и не имеющее видимых пределов действие или безличный процесс) Vs. двинулась (однократный, медленный и величественный выход из состояния полной неподвижности в неподвижной среде). Динамика смены временнЫх циклов преображается вдруг в пространственный образ 'громады дней'. И, наконец, дни со-противопоставляются слову ночь.
-
Ночума - заумно-сдвижное слово, которое позволяет, оставаясь в его условных "границах", предложить два варианта "расшифровки": но чума (о нем шла речь в Главе 1) и ночь ума117. Второй вариант также способен дать приращение смысла. Ночь ума ('Сон разума'?) через симметричный ему при 12-строфном чтении полустих Кровь бродит; чувства, ум [...] "упирается" в державинский эпиграф, который перестает казаться столь уж безобидным. Приведем, не претендуя на строгость доказательства, ряд "параллельных мест" из пушкинского корпуса:
Мне стало грустно: на высокой дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредем
Одни или с товарищем вдвоем.118 ("Домик в Коломне")
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе. ("Скупой рыцарь")
Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! друг Моцарт, эти слезы...("Моцарт и Сальери")
Фауст.
Что там белеет? говори.
Мефистофель.
Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.
Фауст.
Всё утопить.
Мефистофель.
Сей час. (Исчезает)
("Сцена из Фауста") -
Много вздору - тотальное разрушение, преступление, безумие и болезнь, - связаны с происками инфернальных сил в той же степени, в какой с праздностью вышедшего из-под контроля ума, погружающегося во тьму и способного рождать чудовищ. Надежда на Спасение в сдвигах последних строк "Осени" как бы опережает осознание масштабов катастрофы: "Свет!. Трап?!." - "Гром, ад, ад!". Драматизм этих восклицания восходит, кажется, к спору сил света и тьмы за душу умирающего. Если мысленно позволить морфемной волне сделать еще один шаг по пушкинской строчке, корень ключевого слова предлагаемой нами концепции - -дви- (-движ-/-двиг-) - "вклинится" в искаженное титаническим (как бы из последних сил) напряжением артикуляции 'ОТОЙДИ [от меня, Сатана! (?)] ' ("АД/\ДВи!")
-
Вариант последней строфы стихотворения выглядел так:
Ура!.. Куда же плыть? Какие берега
Теперь мы посетим? Кавказ ли колоссальный,
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный?.. -
Мы здесь лишь внешне воспроизводит мы "зимних" строф. "Оборвав" Отрывок на вопросе Куда ж нам плыть? Пушкин ушел от ситуации иллокутивного самоубийства, ибо оно противоречило бы художественной концепции "Осени"119. Мгновенное раздвижение пределов художественного пространства (выход из пространства пейзажа на уровень геологического рельефа, ландшафта и литосферы)120 невозможно, ибо лирического героя "Осени" - больше нет. Он умер.121
-
Ритмический рисунок первых шести стихов и самом деле недописанной октавы (сплошные пиррихии в пятой стопе, три в первой, два из которых рядом, четыре подряд дактилические цезуры - прецедентов нет!) означает начало нового ряда строф; он как бы "освободился" от груза закономерностей, накопившихся в предыдущих. Эта октава могла бы стать XIII, но пяти с половиной пар строф хватило для того, чтобы исчерпать эти закономерности, превратив в гармонию стиха. Графический эквивалент текста (по терминологии Ю.Н.Чумакова) маркирует здесь сдвиг, возникший на стыке октав I-XII и ненаписанных XIII-XIV (шире - на стыке замысла [Эйдос] и воплощния [Логос] ). Ведь, в соответствии с законами композиции "Осени", начало каждого следующего цикла всегда проецируется и влияет не только на начало предыдущего, но и на его конец122. Мир "Осени" завершается Потопом, и Мир после Потопа оказывается для него предсуществующим (и вызревшим внутри него) Антимиром (как замысел "Родословной моего героя" по отношению к тексту "Евгения Онегина"); строфа XII - пространство их взаимоуничтожения (аннигиляции)123. И это есть момент настоящего124, который обретает, с одной стороны, подлинность и последнюю, уже вне языка, достоверность того, что Александр Введенский называл седьмым часом125, с другой - и одновременно - умолкание в финале становится той точкой, где говоривший прежде человек мог бы (если и в самом деле бы мог) с полным правом сказать "Всё. Эта языковая игра сыграна"126. Все правила её были честно соблюдены, и они исчерпаны; можно, в принципе, продолжать ее бесконечно, но это будет не только излишек, но и зло127; сказанного достаточно, ибо в нем есть полнота свершившегося.
-
В свете этих соображений высказанное нами во второй главе предложение мысленно "зациклить" "Осень", наподобие сказки про белого бычка, не выдерживает никакой критики
-
Возникает еще один повод для сопоставления лирического героя, существующего на уровне целого текста, и чахоточной девы, эфемерная жизнь которой целиком помещается в шестой строфе. Лирический герой жив, пока мы слышим его голос (именно он был созидаем втайне в "утробе" нарушаюшего "первоначальную немоту" полустиха "Октябрь уж наступил"); он "жив еще" в строфе XI - "завтра" - в XII - нет. Графический эквивалент строфы, со всей его напряженной метафизикой, мы можем - помня о его "сдвижной природе" мысленно спроецровать (как бы "вернуть") в пространство пробела между строфами VI и VII - точки, откуда "истекают" концентрические "круги" композиции стихотворения. Вертикаль VI, целиком "направленная вниз" (Непомнящий 1984, 430) обретает в черновом варианте "антоним" вверху и тотально расширяется (распространяется) в образах пирамид и горных ландшафтов. Однако это важнейшее и подлинно катартическое событие остается за пределами стихотворения, ибо оно нарушило бы правила игры, которым поэт неукоснительно следует128. Поэтому оно (событие) предельно сжимается в "сдвигах" последних четырех стихов. Если мы помним о дифирамбическом строе финала, знаменитый вопрос должен быть произнесен согласно орфоэпической норме высокого штиля, где [e] не переходит в [о] под ударением. Тогда отчетливо услышим еще один, важнейший (хотя бы потому, что это единственный случай контаминации звуковых комплексов на границе предложений): ВЕТКУДАЖ (ветку дашь). Возникает и имя библейского героя - недвижНОЙ (ничто не предвещало его появления в бешеНОЙ забаве первой строфе; между тем, оно там уже есть). Опознание проливает неожиданный свет на нагие ветви из первой строфы, смутившие А.Тамамшева (Непомнящий 1984, 416-419). Существенно, что Пушкин "прозаизирует" слово суффиксацией в катартическом сдвиге (ветка), в то время как в пейзажной первой строфе маскирует формой множественного числа библеизм ветвь (в соседстве с "высоким" нагих). Вертикаль, направленная вверх, возникает во внутренней форме последних строк, - это гора Арарат.
-
Кратчайший способ показать диалектику взаимодействия сознания поэта с ветхозаветным сюжетом - привести целиком большой фрагмент из "Путешествия в Арзрум", помня, что все написанное Пушкиным складывается в "один гигантский мегацикл, по существу - один текст; но не в модном постмодернистском, а в добром старом смысле единого художественного целого." (Непомнящий 1997, 105.) Сакральное взаимодействует здесь с бытовым и профанным, вертикаль с горизонталью; пробуждение от сна, лошадь и речка также "прорастают" в текст "Осени" - конь и всадник; ручей, пруд, реки, недвижная влага ("Как сильно действие звуков!") Остается указать на связь эпизода с избавлением от мнимого недуга (выздоровлением) и пристальную актуализацию на моменте пересечения границы, воплощение которой в хронотопе Путешествия метафорически содержит идею "сдвига": чужое вчера оказалось своим сегодня. Пространство, где оказался поэт, пересекший речку у подножия библейской горы, оказалось пространством геополитического сдвига. А пространство нижегородской деревеньки в 1833 году оказалось складкой, в которой жизнь обрела особую полноту, будучи поставленной в скобки три года назад холерными каринтинами, воскресившими кавказские впечатления во всей их полноте. Итак:
-
"В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый. Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. "Что за гора?" - спросил я потягиваясь, и услышал в ответ: "это Арарат". Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни - и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения.
-
Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России."
Заключение
-
В книге О.Постнова "Пушкин и смерть" есть очень удачное определение пушкинского изображения осени: "Осень [...] приводит на ум тему смерти: природа словно дает спектакль, изображающий это естественное завершение жизненного цикла" (2000, 171) Такое "театральное" переживание "унылой поры" в жизни природы живо напоминает блестящие философско-риторические спекуляции (в терминологическом, а не в негативно-оценочном смысле слова) русского ницшеанца Н.Н.Евреинова, который видел проявления театрального не только в человеческом мире, - в искусстве129 или в истории, - но и в растительном, животном и даже минеральном царствах, говоря об инстинкте театральности, присущем самой природе. (Нагие ветви деревьев, убитый когда-то соболь и почти сказочный медведь в "Осени" уравниваются в правах со "сдвижным" камнем - который будет разверст, быть может, жезлом пророка, и "потекут воды рекою по местам сухим" - в качестве театральных масок, за которыми скрыты лица истинных героев пиесы.) Сокрытое не только делается видимым, но и нарочно структурируется во времени и пространстве, чтобы наилучшим образом воспроизвести и явить в уплотненном виде собственную природу. Феномен сдвижного слова в пушкинской "Осени" настолько органичен, что занимает промежуточное место не только между некоторой нарочитостью, присущей барочным130 или футуристическим экспериментам в этой области, но и между Культурой и Природой, знаковым и незнаковым. Сливаясь с ритмом, сдвиг обеспечивает "единство "звучания" и "значения" (Шапир 1990, 81), конвенционального (границы слова) и неконвенционального. Эта промежуточность не помешала сдвигу перестать быть случайным и нежданным стеченьем "звуков или слов". Он занял свое - и важное - место в иерархии кодов, служащих сверхзадаче поэта, режиссирующего как сам этот удивительный спектакль, так и его восприятие. Эта задача не могла быть решена без сдвигов, - и Пушкин "опережает" не только Михаила Собакина, но и Алексея Крученых с Василиском Гнедовым. Остается ощутить динамику и энергию сдвига в стихах "Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге" и "Громада двинулась и рассекает волны."
-
"Ни одно слово текста - по отдельности - автору приписано быть не может. Всякое высказывание в рамках текста является высказыванием действующего лица (актанта), повествователя или лирического героя определённых типов, тогда как эстетический субъект (автор) литературного произведения, подобно режиссеру спектакля, по остроумному и точному замечанию М.М.Бахтина, "облечен в молчание", поскольку говорит лишь чужими устами." (Тюпа 1996б, 95)
-
Так, грозное величие дифирамбического финала "подготавливается" в восприятии читателя блестящими тревогами зимних праздников. В легковесном контексте строфы они "проскальзывают" мимо сознания читателя; в слове тревоги здесь нет ничего "тревожного" (Хлебникова накануне войны "пугало" слово пуговица). "Ружье" стреляет в одиннадцатой; но сдвижной "гвоздь", на который оно повешено в строфе III, вбит уже во второй: "[...] с подругой бысТР И ВОлен"131. Легкое "дуновение смерти" (memento mori!), есть там, где ничто, казалось бы, его не предвещает: в соприкосновении слов [она] ваМ РУку [жмет, пылая и дрожа]. Этот "режиссёрский прием" принципиально отличается от аллитерации, ибо воплощение группируется здесь не вокруг фонемы, но вокруг морфемы, как правило, корневой. Воплощая принцип "двойного кодирования" текста, сдвиг не становится элементом тайнописи, ибо служит не передаче или сокрытию некоторой информации132, но работает на решение чисто художественной задачи. Язык современной Пушкину поэзии не знает о такой режиссуре - не Мочалов и Щепкин, а Михаил Чехов, Мейерхольд, Айседора Дункан или даже Игорь Терентьев! (Может быть, "догадывался" о ней Батюшков.) Текст "Осени", тем не менее, "допускает существование читателя" (Шатин 1997, 229), - допускает и под-разумевает, - способного распознать, структурировать и по достоинству оценить опережающее новаторство "постановки".
-
В этом месте можно, кажется, с полным основанием продолжить цитировать дневниковую запись Блока, прерванную нами в последней сноске к первой главе: "Кстати, может быть, Пушкин бесконечно более одинок и "убийственен" (Мережковский), чем Тютчев. Перед Пушкиным открыта вся душа - начало и конец душевного движения. Всё до ужаса ясно, как линии на ладони под микроскопом. Не таинственно как будто, а может быть, зато по-другому, по-"самоубийственному", таинственно". (Блок 1971, 261)
-
Ужас, о котором пишет Блок, с развитием науки о Пушкине и пушкинских текстах (и методов их исследования) становится всё ясней, не становясь при этом горгоническим. Явление, которое мы, вслед за А. Крученых в рабочем порядке называли здесь сдвигом на самом деле представляет собой сумму приемов и не может быть сведено к единому принципу. Предстоит работа по описанию и классификации этих приемов. Очевидно, что наряду с "контаминацией конца слова с началом следующего", сдвигом можно считать родственное анаграммированию распределение частей слова в ударных ("И забываю МИр, и в сЛАдкой тишине") или безударных ("лиричесКИМ ВОЛненьем") позициях стиха, случайное (ведь - медВЕДю) или этимологически мотивируемое (оЗИМи - ЗИМой) совпадение частей слов, близкое к паронимической аттракции. Аттракция (притяжение) действует как в горизонтальном, так и в вертикальном измерениях текста; интересно, что в "Осени" сходные сочетания звуков или морфем одного семантического поля "притягиваются" к актуальным точкам и осям октавы и композиционного целого стихотворения. Для продуктивной классификации могут быть избраны другие принципы (принадлежность составляющих к разным частям речи, разным морфемам, степень "ускользаемости" и др.)
-
Чтобы отсечь возможность пуститься в философские обобщения, в случае с Пушкиным сегодня почти неизбежно спекулятивные, ограничимся отсылками к двум источникам. Один из них - перевод главы "Временность" из книги французского экзистенциалиста и феноменолога Мориса Мерло-Понти "Феноменология восприятия" (1991).
-
"Время предполагает взгляд на время. Оно, таким образом, не подобно потоку, это не какая-то текучая субстанция. Если эта метафора смогла сохраниться от Гераклита до наших дней, это означает, что мы неявно помещаем в этот поток кого-то, кто наблюдает его течение. [...] Если наблюдатель, находящийся в лодке, следует по течению, конечно, можно сказать, что он спускается навстречу своему будущему, но это будущее -новые пейзажи, ожидающие его в пойме реки и течения времени - это уже не сам поток: это развертывание пейзажей перед движущимся наблюдателем.133 Время, следовательно, это не какой-то реальный процесс, действительная последовательность, которую я бы только регистрировал. Оно рождается из моей связи с вещами. В самих вещах будущее и прошлое пребывают в своего рода вечном пред- и постсуществовании; вода, которая проследует мимо завтра, в настоящий момент уже есть - у своих истоков, и только что прошедшая тоже есть немного ниже, в долине. То, что прошло или в будущем для меня, присутствует в мире. Часто говорят, что в самих вещах будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее, строго говоря, представляет собой некий предел, как будто время проваливается. Вот почему Лейбниц мог определить мир как mens momentanea ("мгновенная мысль", лат.), и вот почему св. Августин говорил о необходимости для конституирования времени, помимо наличия настоящего, своего рода наличия прошлого и наличия будущего. Но вдумаемся как следует в то, что они хотят сказать. Если объективный мир не способен нести время, это не значит, что он в каком-то смысле слишком тесен, что мы должны добавить ему грань прошлого и грань будущего. Прошлое и будущее не существуют иначе как в мире, они существуют в настоящем. Бытию самому по себе для того, чтобы стать временнЫм бытием, недостает небытия - "впрочем", "некогда" и "завтра". Объективный мир слишком полон, чтобы дать место времени. Прошлое и будущее как таковые извлекаются из бытия и тяготеют к субъективности, чтобы найти в ней не какую-либо реальную поддержку, но, напротив, возможность небытия, согласного с их природой." (1991, 272-273)
-
"Первичный поток, говорит Гуссерль, не просто существует: он необходимо должен "обнаруживать себя для себя самого (Selbsterscheinung)", в противном случае мы вынуждены помещать за ним какой-то другой поток для его осознания. Он "конституируется как феномен в самом себе", для времени существенно быть не просто действительным, или текущим временем, но еще и временем, знающим о себе, так как взрыв или раскрытие настоящего к будущему представляет собой архетип отношения себя к себе и обрисовывает некое внутреннее, или самость (ipseite). Здесь струится свет, здесь мы имеем дело уже не с бытием, покоящимся в себе, но с бытием, все существо которого, подобно существу света, состоит в том, чтобы делать видимым. Именно благодаря времени возможно непротиворечивое существование самости, смысла и разума. [...] верно, что субъект неизменно остается абсолютным наличным бытием для себя и что с ним может произойти только то, набросок чего он несет в самом себе; верно также, что он находит себе символическое выражение в последовательности и многообразии и что эти символы суть он сам, так как без них он был бы чем-то вроде нечленораздельного крика и не смог бы даже осознать себя." (286) "Мы - не активность, непостижимым образом присоединенная к пассивности, не автоматизм, подчиненный воле, не восприятие, подчиненное суждению: мы целиком активны и целиком пассивны, потому что мы суть возникновение времени." (287-288)
-
Чтобы воплотить эти коллизию поэтическими средствами, Пушкину понадобилось совместить первичный поток с потоком поэтической речи, а чтобы он мог, в свою очередь, "обнаруживать себя для себя самого" в чем-то отличном от физически измеримого времени речи - поместить за ним еще один поток134, связанный с вневременным "опытом авторской плоти" (Р.Барт): слова и фразы, младенческий лепет и предсмертные стоны растворены здесь в строгом хронометраже строф; некоторые из них складываются в конфигурации, поддающиеся структурированию и работающие на воплощение замысла; некоторые - "повисают", подобно вопросу "Куда ж нам плыть?"...
-
Эффектный финал, - и отказ от введения в текст строфы о горных ландшафтах и равнинах (как от искушения), - видимо, следует оценить в контексте следующей феноменологической рефлексии: "Очевидно, в самом деле, что я могу считать себя автором времени ничуть не больше, чем биения своего сердца. Не я кладу начало темпорализации; я не выбирал, рождаться мне или не рождаться, и с тех пор как я родился, время течет через меня, что бы я ни делал." (286)
-
Второй - фрагмент из текста Александра Введенского, более известного под названием "Серая тетрадь" (<1932-1933>) и кончающегося фразой "Я не по...": "Будем думать о простых вещах. Человек говорит: завтра, сегодня, вечер, четверг, месяц, год, в течение недели. Мы считаем часы в дне. Мы указываем на их прибавление. Раньше мы видели только половину суток, теперь заметили движение внутри целых суток. Но когда наступают следующие, то счет часов мы начинаем сначала. Правда, зато к числу суток прибавляем единицу. Но проходит 30 и 31 суток. И количество переходит в качество, оно перестает расти. Меняется название месяца. Правда, с годами мы поступаем как бы честно. Но сложение времени отличается от всякого другого сложения. Нельзя сравнивать три прожитых месяца с тремя вновь выросшими деревьями. Деревья присутствуют и тускло сверкают листьями. О месяцах мы с уверенностью того же сказать не можем. Названия минут, секунд, часов, дней, недель и месяцев отвлекают нас даже от нашего поверхностного понимания времени. Все эти названия аналогичны либо предметам, либо понятиям и исчислениям пространства. Поэтому прожитая неделя лежит перед нами, как убитый олень. Это было бы так, если бы время только помогало счету пространства, если бы это была двойная бухгалтерия. Если бы время было зеркальным изображением предметов. На самом деле предметы это слабое зеркальное изображение времени. Предметов нет. На, поди возьми их. Если с часов стереть цифры, если забыть ложные названия, то уже может быть время захочет показать нам свое тихое туловище, себя во весь рост." (Введенский 1998, 543-544; курсив мой - И.Л.) Может быть, из-под Куда ж нам плыть? оно уже захочет показать нам после прочитанных по заданным поэтом (и поэту) правилам одиннадцати октав - и ста шестидесяти восьми лет, пролетевших, как звук, после болдинской осени 1833 года - свое тихое туловище?..
Декабрь 2000 - май 2001
ПРИМЕЧАНИЯ:
1Варианты текста Главы 1 опубликованы: Лощилов 2001а, 2001б.
2 Реферат двух книг Крученых, посвященных "сдвигу" (Крученых 1924, 1992), и современную интерпретацию термина см. Жаккар 1995, 16-23, 266-276. В узком смысле - "фонетическая комбинация конца слова с началом следующего" (271). Семиотическим комментарием явления может послужить фрагмент из работы Ежи Фарыно о семиозисе Маяковского: "Языковая интуиция носителей русского языка (а также вся предшествующая литературная традиция) за означающим или звуко-графической стороной языкового знака (слова) всегда предполагает наличие соответствующего означаемого (смысла, значения) и неразрывную их связь. Для такой интуиции слово без означаемого теряет статус слова, обессмысливается, становится "не-словом" (даже в тех случаях, когда оно получает статус "высшего", в нем усматривается своеобразное иноязычие - божественное, магическое и т. п. - слово, а не слово, лишенное всякого смысла). Аналогично и в случае вычленяемого в наблюдаемой внеязыковой действительности явления или предмета этот тип интуиции предполагает наличие соответствующего ему названия - слова. Безымянное воспринимается либо как не существующее, либо же как обладающее потерянным или засекреченным именем. <...> Традиционное и вообще свойственное носителям естественного языка представление о слове предполагает заданный строго определенный порядок составляющих его микроэлементов (морфологических, фонетических или графических), выполняющий смыслоразличительную функцию. На внутреннюю упорядоченность слова накладывается кроме того и заданный порядок его произнесения либо прочтения. Внутренняя упорядоченность компонентов словесного плана выражения (его структурность) обеспечивает слову его вычленяемость из речевого потока, его внутреннюю замкнутость и внешнюю отграниченность от остальных (соседних) слов. Но на внутреннюю структурность слова накладывается ведь и заданный порядок его произнесения-прочтения, т.е. линейность и необратимость. Линейность и необратимость слова противостоят его внутренней замкнутости, нейтрализируют ее. С одной стороны, они обеспечивают слову его свободную включаемость в синтагматическую цепочку и этим самым обнаруживают его семантическую подчиненность, несамостоятельность - свой смысл слово реализует постольку, поскольку является частью более крупного единства. С другой стороны, вхождение в линейный синтагматический ряд размывает и формальные внешние границы слова - создает открытость слова, более слабую в начале и более сильную в конце. Будучи вычленяемой единицей речи, слово есть одновременно и единица с размытыми границами в его начале и конце (ср. принцип упреждения); будучи самостоятельным, оно одновременно обладает способностью сочетаемости с другими словами (не случайно конец высказывания - любой длины - всегда должен отмечаться дополнительными средствами: повышением или понижением голоса, интонацией, метатекстовыми указаниями типа "конец" и проч.)." (Фарыно 1977) См. также Янечек 1996 а, б. Эпиграфом к Крученых 1924 служат строки из стихотворения Пушкина "К моей чернильнице" (1821): "То звуков или слов / Нежданное стеченье".
3 [Нет ли оснований предположить, что в процессе работы над статьей о литературной мистификации в языковом сознании поэта работал еще один - интерлингвистический - словесный ряд: the plague (чума) + hiatus (зияние) --> плагиат, как и образ мифологического элизия ?..]
4 Ирония этой фразы не мешает отчетливей увидеть в свете актуализованного сдвига и драматургию жанровых трансформаций в "Осени".
5 О связи между творчеством с одной стороны, деторождением и потенцией - с другой у Пушкина (и Хармса) см. примечание 40 в Кобринский 1998 (со ссылкой на работу И.П.Смирнова). Ср. также фрагмент описания рисунка из рукописи "Осени": "[...] К беседе с любопытством прислушивается молодая беременная женщина, - в чепце, со сложенными руками на выступающем животе." (Фомичев 1993, 38) Отметим, что беспокойство о возможной беременности жены ("Две вещи меня беспокоят: то, что я оставил тебя без денег, а может быть и брюхатою", 8 октября 1833 г.), объединяет болдинские письма 1833 года с супружеской перепиской "холерной" Болдинской осени 1830. Кроме того, брюхо в переписке Пушкина фигурирует в фразеологическом контексте, связанном с семантикой желания (ср. "Желания кипят - я снова счастлив, молод"): "Где и что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его." (Ф.Ф.Вигелю, осень 1823) "Да вот те Христос: литература мне надоела - прозы твоей брюхом хочу." (П.А.Вяземскому, 19 февраля 1825) "Мне брюхом хотелось с тобой увидеться и поболтать о старине - карантины мне помешали." (Н.И.Кривцову, 10 февраля 1831)
6 Вячеслав Иванов в 1921 году говорил М.С.Альтману: "Лев Шестов (а он, не в обиду будь ему сказано, ученик Ницше), когда писал обо мне статью 'Вячеслав Великолепный', эпиграфом к ней поставил: 'Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса'. А ведь 'пышное увяданье' и есть, по терминологии Ницше, декадентство." (Цит. по Иванова 1992, 426.) Трудно не поразиться - при всех очевидных различиях - точности совпадения некоторых моментов "Осени" и "Ecce homo" - духовной автобиографии философа, призывавшего "оставить душу в покое" и всегда считавшего настоящим местом "тело, движения, диету и физиологию": "Кто видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я, без перерыва, писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, с ответственностью за все тысячелетия после меня, тот не заметил во мне следов напряжения; больше того, во мне была бьющая через край свежесть и бодрость. Никогда я не ел с более приятным чувством, никогда я не спал лучше." (Ницше 1991, 360) "Я говорю еще одно слово для самых избранных ушей: чего я в сущности требую от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день после полудня." (355) И еще одна формула германского "изобретателя дифирамба": "Поделиться состоянием, внутренней напряженностью пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков - в этом состоит смысл всякого стиля." " (365)
7 О стилистических оттенках употребления слова, актуальных в языке эпохи см. Лотман 1996.
8 О его специфике у Пушкина см. Вайскопф 1999.
9 Юрий Николаевич Чумаков, ознакомившийся с одним из вариантов настоящего текста, указал в этом фрагменте еще два "сдвига": "НО ГАснет" (ср. описание листа 82 рукописи в Фомичев 1993, 47 и палиндромические отношения, возникающие с первым словом следующего стиха) и "я пред ниМ ЧИТаю". Какая мощная динамика в одном из самых "спокойных" мест стихотворения! И дальше: "иЛЬ ДУмы долгие". Как если бы некто, скользивший "по зеркалу стоячих ровных рек" в III строфе, теперь - незримый - мчит со страшной скоростью по льду (или уже над ним?), расколотому в первой половине IX копытом трудноопознаваемого Пегаса! Е.Бобринская пишет о близости позиции Крученых к радикальным взглядам Юлиуса Эволы: "На земле все измеримо, последовательно, познаваемо. Здесь отсутствует нечто, что требует иного пламени - индивидуальность. <...> В своей не-жизни человек рынка не знает, что ему делать с огнем внутренним <...> Внутреннее пламя, неприкаянно лежащее у него под ногами, если бы оказалось в его владении, то смело бы с лица земли все его теплохладные города, уничтожило бы все его нелепые идеалы, удобства и сладострастное небытие. Оно истребило бы и его самого. Безотчетно он знает это и ищет забвения, отсутствия самого себя." (Цит. по Бобринская 1998, 39; курсив мой - И.Л.) Пользуясь случаем, выражаю признательность Ю. Н.Чумакову, "повернувшему" в свое время автора лицом к пушкинской "Осени"; замысел нашего сочинения во многом восходит к беседам с Юрием Николаевичем.
10 В рукописи XI строфы был вариант: "Минута - и стихи струею потекут // Сейчас... Так хмель во браге" (Фомичев 1993, 50; второй из стихов свидетельствует, что поэт не исключал возможности нарушения цезуры). Наряду с вибрионом Cholera morbus, чахоточной палочкой и возбудителем чумы действуют здесь и "позитивные" микроорганизмы - хлебные и бродильные дрожжи. Вообще, можно говорить, видимо, о семантическох полях "распыления на микрочастицы" и "смертоносного проникновения" ("мельница" в строфе I, метафорически "размалывает" на слоги, морфемы и графемы, кажется, самоё "центроустремленное" слово [см. в этой связи Ямпольский 1998, 307-309, 314-315 и Соколов 1978]; болезнетворные микробы оказываются родственными неназванной "пуле" соседа-охотника с собаками из I строфы, угрожающей медведю из III и уже поразившей соболя из II, подобно тому, как возбудитель чахотки поразил деву). В рукописи есть "зачеркнутое рисунком (изображение стального пера) слово 'Мила'" (Фомичев 1993, 49). Что если слово из второго стиха пятой октавы не зачеркнуто, а рассечено рисунком поэта, с тем, чтобы "воскреснуть" по частям, симметрично распределившись по полустишиям в ударных позициях в начале десятой: "И забываю МИр, и в сЛАдкой тишине"?.. [Трудно удержаться от соблазна спроецировать на этот момент не только осенний хлад и младых Армид (вместе с другими комбинациями дл/лд//тл/лт), но и хлебниковский Ладомир.] С.Фомичев, ссылаясь на неопубликованную рукопись К.А.Баршта, говорит об использовании рисунков как "рисованных слов" в черновиках Пушкина (35).
11 Описанная выше "двойная центрированность" может быть увидена как воплощение двух модусов человеческого существования - женского (строфа VI - Муза) и мужского (VIII: явновьчу - Поэт). Если "женский центр" может быть уподоблен "сердцу" пушкинской "Осени", то "мужской" - это его солнечное сплетение. О мотиве андрогина в "Осени" см. Непомнящий 1987, 416. Ср. странное с точки зрения современников соседство памятника Пушкина и шокового в контексте новой европейской культуры образа мужской беременности в стихотворении Давида Бурлюка "Плодоносящие" ("плоды мечты моей"?):
-
Мне нравится беременный мужчина
Как он хорош у памятника Пушкина
Одетый серую тужурку
Ковыряя пальцем штукатурку
Не знает мальчик или девочка
Выйдет из злобного семечка?!
Мне нравится беременная башня
В ней так много живых солдат
И вешняя брюхатая пашня
Из коей листики зеленые торчат. <1915>
12 О "золотом сечении" в "Осени" см. Непомнящий 1987, 432. Считать слоги в пушкинской "Осени" легко: число их в октаве, написанной строго альтернированным александрийским стихом великолепно "подрагивает" вокруг сотни: 99 и 101 в четных и нечетных позициях. Не с этим ли связаны тщательно зачеркнутые в рукописи подсчеты (Фомичев 1993, 49-50) и дважды нарисованная улитка, выползающая из спиралевидной раковины?...
13 "Вот уж неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят" (Из письма Н.Н.Пушкиной 8 октября 1833 г; курсив мой - И.Л.) О семантическом поле сна/пробуждения, корни которого уходят в державинский эпиграф, см. Непомнящий 1987, 398 и Чумаков 1999, 333-334.
14 В статье С.Давыдова намечены, по нашему мнению, серьёзные перспективы научного осмысления и описания особенностей криптографии и визуального мышления позднего Пушкина ("звуковые, зрительные и семантические ассоциации", 116).
15 Поиски других сдвигов в тексте не привели нас пока к ощутимым результатам; стоит отметить лишь двух "уток", одна за другой "пролетевших" в начале IX и в конце X строф: "ВедУТ КО мне коня" и "И тУТ КО мне идет" ([утк/\]). Оба раза к "уткам" примыкают чуть менее отчетливые сдвигологические "камни" - ко мне: [к/\мн'э] Не беремся судить - насколько это значимо и как соотносится с многочисленными "росчерками-птицами" (и в самом деле больше всего похожими на уток) в рукописи (Фомичев 1993, 51); на л.86 рукописи "появляются росчерки-птицы, но теперь они не взлетают ввысь, а спускаются - вплоть до подножия величественной египетской статуи" (50). ["Каменный гость", "Памятник"?.. Или оставшиеся в рукописях "симвoлы вечности" - пирамиды из Египта и каменные фараоны?.. Если бы не появившееся в начале "критической" XI октавы слово рифмы, "Осень", - кстати, - можно было бы счесть липограммой - длинным стихотвореним без букв, обозначающих звук [ф]. Ср. антропоморфизацию букв кириллицы в "Истории села Горюхина".] В любом случае, однако, уткамни ["Камень претк(утк-)новения"?.. Ткань? Или достраивание "коня" из сферы "повседневного" и "преходящего" до образа его крылатого мифологического предка (сохраняющее и "снижение"!): "ВедУТ КО мне КОНЯ"?.. Отважимся предложить вариант "перевода" IX-X строф тремя стопами "заумно-заклинательного" ямба: Ко мне, уткамнеконь!] выполняют формально-окольцовывающую функцию, "выхватывая строфы", где намечается поворот к "высокой болезни" поэтического творчества. Зато в "забракованном" поэтом варианте следующей, XI, строфы, "сдвигологическими" (в более широком смысле") удвоениями фонетических комплексов построен ряд корней одного семантического поля ("власть": царь - бог - пан):
-
Стальные рыЦАРи, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские ЦАРи,
Гречанки с четками, корсары, БОГдыханы, --> ["Дохнул осенний хлад"?..]
ИсПАНцы в еПАНчах, жиды, БОГатыри,
ЦАРевны пленные и злые великаны,
И вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами. --> ["Да визг, да звон оков"?..]
Если предположить, что арапские цари здесь работают, как знак, "выдающий" авторское присутствие, можно объяснить, почему поэт "остановил" этот подлинный потоп притягательно-страшных персонажей, и описывает телесное овнешнение творческого акта ("И пальцы просятся к перу, перо к бумаге"; [кп'ируп'ирогбу]=К ПИРУ ПИРОГ?!. "Так вот куда октавы нас вели!" Если три года назад поэт "свел" чуму и пир на сцене, то теперь - в "двадцать пятых кадриках" сдвигов... И нет ли тогда оснований вспомнить поминальную трапезу из стихотворения "Сват Иван, как пить мы станем" всё того же 1833 года?..) Мало того, что "бесстыдные" корни и звуковые комплексы и в самом деле приапами торчат в этой великолепно инкрустированной "барочной" строфе [Но, может быть, самый момент рождения поэзии содержит "сдвигологический" намек на эту опасность: "ТрепеЩЕТ И звучит..." Нечто трепещет, но оно же может и ощетиниться! При смещении же "произвольной точки внимания" [тр'ипеШ'ИТ] и [иШ'ИТ] дают ЩИТ; фактура слова, по Крученых, "конструкция, наслоение, накопление, расположение тем или иным образом слогов, букв и слов", цит. по Жаккар 1995, 19; курсив мой - И.Л.]; пропусти поэт это нашествие "плодов мечты" и двунадесяти языков - читатель "Осени" стал бы в её финале невольным свидетелем опасного приступа Mania Grandioso, чреватого явленными в аллитерациях нечеловеческими звуками ("ревом", агрессивным "рычанием" и эротизированным "воем"), а не величественного умолкания на высочайшей дифирамбичес кой ноте, за которым, быть может, следует услышать на фоне абсолютной тишины 45 (соответственно числу непроизнесенных до конца XII строфы ямбических стоп) последних ударов сердца ... Но психические аномалии - это уже тема написанного вскоре стихотворения "Не дай мне бог сойти с ума": "И сквозь решетку как зверка..." Не исключено, что аналогом этого столпотворения и смешения языков в окончательном тексте является стилистическая разнородность, о которой говорится почти во всех исследованиях "Осени", и "смешение" лексики, характерной для разных поэтических жанров?.. Если позволительны аналогии с визуальными искусствами, каламбуры и "странные сближения", то 881/2 стихов канонического текста пушкинской "Осени" - скорее "Времена года" Брейгеля, нежели умопомрачительные парады монстров из фильмов упомянутого выше Феллини. Пушкинский корабль, тем не менее, плывет; как, впрочем, и броненосец "Потемкин", и будетлянский "пароход современности". [Дальнейшее пребывание в разрастающемся пространстве сноски № 14, как это было уже в номерах втором и девятом, становится опасным для сочинения, претендующего на научность. Киноассоциации относятся, разумеется, не столько к "пушкинскому", сколько к "крученыховскому" пласту: сами будетляне определяли технику заумной речи как возможность "проецирования на экран стихов еще темных, неосознанных психо-физических рядов - ритмов, образов, звуков и проч." (цит. по Бобринская 1998, 16; курсив мой - И.Л.)]
16 Еще в 1914 году, впрочем, об этом догадывался Блок, записавший в дневнике: "...А что если так: Пушкина научили любить опять по-новому - вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т.д., а... футуристы. Они его бранят, по-новому, а он становится ближе по-новому." (Блок 1971, 261)
17 См. также историю недоразумений, связанных с датировкой стихотворения; они восходят к возможности двоякой интерпретации пушкинской записи 1 окт в начале рукописи: первое октября и первая октава (Измайлов 1974).
18 "Ланиты ярче алых роз" напоминают финал стихотворения 1829 года "Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю", отозвавшемся в хлебниковском "Русь, ты вся поцелуй на морозе" (Тырышкина 2000, 74-83).
19 О "мнимой незавершенности" отрывка, роднящей его, "при всей несоизмеримости лирического стихотворения и романа в стихах", с "Евгением Онегиным", пишет Ю.Н.Чумаков. (1999, 344) Как отмечает исследователь, "художественный эффект концовки" оценил лишь Н.Л.Степанов. "Незавершенным отрывком" продолжает считать "Осень" О.Постнов (2000, 171). Одна из задач нашей работы - доказать, что это не так.
20 Мы указывали уже на своебразную "двойную центрированность" "Осени": если считать, что строф 11, композиционным центром является как раз строфа VI. Если считать, что их всё же 12, середина приходится на "минуту молчания" над "могильной пропастью", предшествующую хрестоматийным пейзажным строчкам "Унылая пора! очей очарованье!"
21 "[...] осень сравнивается поэтом с чахоточной девой, причем невзначай делается предположение, что читатель - соучастник и подобных чувств, и подобного строя души [...]То, что понятно применительно к нечеловеческой ипостаси природы, как раз в мире людей требует разъяснения, возможно, убеждения, а то и медитативной резиньяции. Но, будто не замечая этого, Пушкин поясняет непонятным понятное, выигрывая читательское согласие этим сломом канона, прячущимся под видом лирического настроения и обычной элегической печали. И потому опять-таки незамеченным проходит контраст между осенью - умирающей девой и поэтическим героем." (Постнов 2000, 171)
22 "Корпус стихов, составляющих стихотворный роман Пушкина, равен 5082 строкам, включенным в 363 полные строфы" (Шатин 1991, 49). Число строф в романе, таким образом, весьма близко к числу дней в году. См. в этой связи также Чумаков 1977. "Домик в Коломне" состоит из 40 (со всеми сопутствующими этому числу в христианской символике смысловыми оттенками) октав - 319 стихотворных строчек ("В строфе XXVI, самой динамичной, где изображается обморок вдовы и бегство кухарки, происходит сжатие стофы до 7 стихов[...]", Шатин 1991, 30) . Текст "Осени", как уже говорилось выше, задуман состоящим из 12-и октав, и реально равняется 881/2 строчкам. В глубинах жанровой прапамяти стихотворения живут альманах, дневник, календарь, минея и летопись.
23 Александриец в рукописи "Осень" проходит все три стадии: "Стихотворение пишется стальным пером на л. 82 об. - 86 тетради ПД, осенью 1833, в Болдино. Работа над стихотворением начата наиболее привычным для Пушкина размером - четырехстопным ямбом. После характерных исправлений, зачеркиваний, наметок новых вариантов строки стихотворения первоначально предстают в таком виде:
-
Уж осень холодом дохнула
На обнаженные поля -
Уже дубрава отряхнула
Последний лист - уже земля
Белеет утренней порою
Еще прозрачною корою
Промерзли колеи
И стынет пруд
Три последние строки зачеркиваются, и после короткого отчеркивания Пушкин пробует новый вариант:
-
Недавно топкая дорога
Замерзла глыбами; по ней
Гремят копыта лошадей
[...] Теперь испытывается несколько иной размер:
-
Промерзла глыбами
В глубоких колеях под колесом.
(Бесцезурный пятистопник "Домика в Коломне" Ср. "Всё кажется мне, будто в тряском беге/ По мерзлой пашне мчусь я на телеге." - И.Л.) Это двустишие обрабатывается и принимает следующий вид:
-
Промерзла глыбами - и тонкий лед стеклом
В глубоких колеях хрустит под колесом.
Так был найден, наконец, размер стихотворения - шестистопный ямб, что вызвало ноебходимость отбросить все начальные строки и подумать заново, как и о чем пойдет речь." (Фомичев 1993, 37-38)
24 Почти одновременно с "Осенью" поэт начинает писать "онегинскими строфами" "Родословную моего героя". Анализ ритма этого строфического образования по методике Андрея Белого приводит к неожиданным результатам: "По своему ритмическому строению онегинскую строфу в "Родословной моего героя" следовало бы назвать антионегинской строфой, поскольку основными ее параметрами являются параметры восходящего контраста. При полном соответствии формуле она меняет ритмические координаты на противоположные, открывая путь к совершенно иной семантике текстового пространства, не реализованной, насколько нам известно, ни в одном из произведений русской поэзии, использовавших онегинскую строфу." (Шатин 1991, 52-53)
25 [На стыке слов, почти энигматически называющих коньки, отчетливо слышится за мост: "Как весело, обув жезеЗОМ ОСТрым ноги [...]". Не есть ли это стрелка, указывающая в пространство, куда через дрожащий гибельный мосток переводит Татьяну медведь?]
26 "С течением времени все более явственной делается одна из основных черт поэтики А.С.Пушкина - универсальный языковой плюрализм при строгой иерархии языковых кодов. С этой точки зрения Пушкин может быть назван семиологом до семиологии." (Шатин <рукопись>, 1)
27 Из поэтической шкатулки XX века в этой связи в первую очередь извлекается "Заключение" из поэмы Михаила Кузмина "Форель разбивает лед":
-
А знаете? Ведь я хотел сначала
Двенадцать месяцев изобразить
И каждому придумать назначенье
В кругу занятий легких и влюбленных.
И вот что получилось! [...]
Толпой нахлынули воспоминанья,
Отрывки из прочитанных романов [...]
Двенадцать месяцев я сохранил
И приблизительную дал погоду, -
И то не плохо. (Кузмин 1990, 294)
28 Описывая композицию "Сна Татьяны" - "десять строф плюс шесть стихов из одиннадцатой" - Ю.Н.Чумаков приходит к выводу: "...В итоге получается, как всегда у Пушкина, слегка сдвинутое композиционное равновесие". (1999, 197) В искусстве XX века известна концепция равновесия с небольшой погрешностью (Д.Хармс и Я.Друскин).
29 I: озими; II: оттепель, соболем; III: зеркалу, праздников; IV: красное, душевные; V: осени, тихою, нелюбимое, доброго; VI: нравится, клонится, пропасти; VII: пышное, золото, волнистою, отдаленные; VIII: осенью, радостно; IX: гривою, медленно, долгие; X: пробуждается, стесняется, давние; XI: легкие, просятся, двинулась; [XI*]: рыцари, карлики, чётками, пленные, любимицы, гладкими; [XII]: опаленные, дикие, Нормандии, Швейцарии.
30 "Аморфной структуре державинского стиховтворения ("Евгению. Жизнь званская", откуда взят эпиграф - И.Л.) с его линейной описательностью (что, разумеется, не снижает великолепия отдельных мест) противопосталена упорядоченная и экономная структура "Осени" Пушкина." (Чумаков 1999, 334) Название стихотворения тоже можно осмыслить как корреспонденцию к собственному роману в стихах.
31 Сукцессивность - "временной момент ощущения художественной речи" (Шатин 1986, 26).
32 "Как весело, обув железом острым ноги, / Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек" - Так начинается октава III, и читатель, как правило, не осознает, что это место и самом деле зеркально отражает октавы III-IV в первых двух.
33 Вторая "малая" может точно совпасть лишь с запятыми: "[... ]стоячих, ровных рек!"; "[... ]сегодня, завтра нет."; "[... ] и ищет, как во сне"; "[... ] надулись, ветра полны".
34 "[...] на днях испразнился сказкой в тысячу стихов; другая в брюхе урчит. А всё холера..." (Из письма П.А.Вяземскому, 3 сентября 1831г.)
35 Читатель ждет от поэта, как правило, не только "рифмы розы", но и признаний в любви; его ожидания иногда оправдываются: "Признаться вам, я в пятистопной строчке/ Люблю цезуру на второй стопе". Строки о любви к зиме и ее снегам вызывают в памяти "искренние" дневниковые записи Д.Хармса, дискредитирующие, кажется всякое оценочное суждение и самую его возможность: "Ел сегодня ванильный мусс и остался им доволен. Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен. Купался в Екатерининском пруду и остался этим доволен. (10 июля.)" (Хармс 1991, 114-115)
36 Стих "Ведь это наконец и жителю берлоги", кстати, вместе с двумя окружающими полустишиями, легко перестраивается в нерифмованное двустишие, намекая на возможность сдвига на уровне стиха: "[...] полгода снег да снег, (/) Ведь это наконец // И жителю берлоги, (/) Медведю, надоест." Не следует смущаться тем, что получавшиеся в результате сдвигов октава и двучтишие отклоняются от формул. В аналитическом "этюде" Сергея Эйзенштейна "Чет - Нечет", прежде, чем комментировать "темные места" китайского философско-метафизического трактата, вводит пространственное измерение: "[...] стоит нам сдвинуть всю эту "заумную китайщину" из обасти числовых представлений в область геометрических начертаний, как дело становится совершенно ясным и наглядным. <...> Четное - не столько прибавлением третьего кружка (В), сколько действительно внесением его между двумя другими - превращено в Нечетное (этот процесс чисто числовыми представлениями действительно невыразим!). (1988, 235) Числовым представлениям в нашем случае, соответствуют заданные формулы (метрическая и строфическая), в то время как геометризация, делающая формулу наглядной, соответствует собственно поэтическому.
37 МинутаИСТИхи.
38 До полноты осуществления в комическом (и, в соответствии с агитационной эстетикой позднего В.Маяковского, довольно плоском) каламбуре созвучие частей в словах брюхо и октябрь "дорастет" с киносценарии "Декабрюхов и Октябрюхов" (1926).
39 "Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днем, я понял, что родина творчества - будущее. Оттуда дует ветер богов слова." (Хлебников, "Свояси", 1986, 37) "Временность - это не последовательность (Nacheinanader) экстазов. Будущее - не последующее по отношению к прошлому, а прошлое не предшествует настоящему. Время временится как будущее-которое-идет-в-прошлое-входя-в-настоящее." (Мартин Хайдеггер, цит. по Мерло-Понти 1991, 34; курсив мой. - И.Л.) В пушкинском случае мы предпочли бы сказать время временеет.
40 Пару строф - единиц другого уровня хронометража в "Осени" - легко ощутить "семьей", если вспомнить, как работает образ снега в строфах II ("мужской" вариант)-III ("женский"), из своих недр "рождая" третью.
41 В строфе VII образованию сдвигов препятствует однообразие окончаний относительно многочисленных прилагательных и существительные не -енье и -анье; звучание строфы за счет этого "йотируется" ("Томление в пушкинском Онегине построено на енном (так и главные герои романа: Евгений Онегин, (Л)енский, (Тать)яна,) вот почему можно говорить не краснея о евенине в звукообразе Пушкина)." (Крученых 1990, 50) Тем не менее, можно указать три легких колыхания фонической ткани, группирущейся в слова или морфы: шУМ И, поркРЫТЫ небеса , перВЫЕ Морозы. Но это - "затишье" перед грозой.
42 Укажем, например, на хоровод, "рассредоточенный" в сильных слогах стиха "УХОдит РОзен скВОзь Теснины" из поэмы "Полтава" (1828-29).
43 [Искать, искажать, скажет, жажда].
44 [Яркий (солнца луч и свет), ярость].
45 [Таять].
46 [Вить].
47 [Лезть] (к матросам?)
48 Явно, [вновь, вчувствование, чуять, чувство, чу!, навстречу, чума].
49 [Летать, Лета,] 'тает сон'.
50 [сно] - сон?
51 [Пятясь, пять, 'пять основ'(?)], ясно, снов, снова,[ новый].
52 Ясно, снов, [важно, оживать].
53 [Темнеть].
54 [Дуть, дудка, утка, камни, ко мне, коня, кентавр].
55 [Лить].
56 [Игривый].
57 Сад, дни,[ конь, Ника, канет, конец].
58 [Извольте] ('мне простить').
59 [д'jевoбл'] - дьявол(? Рядом 'копыто', а сквозь 'копод [...] копытом' легко прослушивается ' топот копыт' и копоть; развитие инфернального ряда этого стиха оставлено, кажется в опущенном варианте строфы XI; блистаюЩИМКОпытом: 'ущемил копыто'?)
60 [Тпрру!]
61 [Злой.]
62 Нога.
63 [Ткнуть, ткать, точка (тык-тык?), сутки].
64 [Мелькать] (к мчит?)
65 [Пять гор'] (?)
66 [Светлый, ветвь, веть, тлеть]
67 [Тот, лить, тлеть, млеть , тьма, отлет (?), мёд, медь, длинный, лень].
68 'Дни мчит'.
69 Лёд.
70 [Лгать].
71 [Питание].
72 [Сладость, лад, ад].
73 Тишь.
74 [Ясли, ясно, лад, иней (если предположить сдвиг на границе строк)].
75 Плен (к 'царевны пленные'?)
76 [Я, являть, камни.]
77 Шасть!
78 [Символ], кимвал.
79 [Щетиниться, щетка, щит].
80 [Злиться].
81 [На коне, на-ка, наг], 'конец свобод' (к плен?), ['конец света', дно, обод].
82 [Являть, явно].
83 [Лодка, лад (лады), лодыжка,] дым, меч, ты,[ мчать].
84 [Сливать, слой, слива].
85 [Голый (к наг?), лавина].
86 [Я - вот (ср. 'Вот я' Авраама)].
87 (В) мыле (конь?)
88 Речь, [чуять], им, [ручей].
89Цып (ср. цапцарап в "Графе Нулине" и спряжение "забавного глагола" цапцарапствовать в "Опровержениях на критики"); [просо].
90 'К пиру пирог', пир, рог, рубль (рупь),[ упираться].
91 'Утаи стихи', 'утаить истину](?),' [утка, тайна, истина, тихий].
92 [Обод], дно, пот, [течь, кутья, закут].
93 [Емлет, внемлет, млеть, 'лет нет', летать, Лета, Этна (Етна?)]
94 [Сжимать].
95 [Ной, жать].
96 'Ночь ума', 'но чума',[ чуять, чу!, трос].
97 Друг, [руки, ругань].
98 [цап].
99 [Пар].
100 Улисс, свет, трап; [завет, ветвь (?)].
101 'Гром, ад, ад', да.
102 [Творить (творец?), ствол].
103 'Ветку дашь'.
104 Да! Если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп - я захлебнулся б
В моих подвалах верных. Но пора." ("Скупой рыцарь")105 Об образе улитки, выполцающей из раковины в связи с концепцией органического искусства в эстетике русского авангарда в литературе и искусстве см. Мислер 1999.
106 Ср. в стихотворении "Поэт и толпа" (1828): "Поэт по лире вдохновенной/ Рукой рассеянной бряцал"
107 Симфония отсылает в этом месте к стиху 22 из Главы 7 "Евангелия от Матфея": "Многие скажут Мне в тот день "Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?" Разумеется, скорее всего речь идет о своеобразной поэтической криптомнезии, по терминологии К.Г.Юнга (1995, 322-325). Ницше в книге "Так говорил Заратустра" почти дословно - и, конечно же, бессознательно - воспроизвел несколько пассажей из книги Юстинуса Кернера, которую, по свидетельству Элизабет Фёрстер-Ницше, философ не перечитывалал после 15 лет. С другой стороны, известно, какое место в жизни Пушкина занимало в последние годы жизни чтение Псалтыри.
108 Метафорические экспликации в тексте: "Дохнул осенний хлад - дорога промерзает" (I, 3), "В их сенях ветра шум и свежее дыханье" (VII, 5) и "Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны" (XI, 7). Можно указать и "сдвигологические": "стражДУТ Озими" (I) и "веДУТко мне коня" (VIII).
109В авангардистском и комическом контекстах уместно, может быть, вспомнить двустишие Олега Григорьева, в миниатюрном объеме которого воплощена "тоска" сукцессивного о желанной (но осуществимой лишь вне слова) симультанности: "Чтобы выразить всё сразу/ Кулаком я бью по тазу". Ср. также философский шум, который не от мира сего у Хармса.
110 Величие замысла в полном согласии с подлинным блеском воплощения в слово- и звукоизвитиях "Осени" следут осмыслить именно в этом, а не в литературно-нарциссическом контексте. Само дивное устроение каждой из 12 октав становится единственно возможной для поэта формой воздать Творцу хвалу.
111 Предварительные наблюдения, касающиеся детализации телесных верха и низа (обувь и головные уборы) в художественной концепции "Повестей Белкина" содержатся в нашей статье Лощилов 1994.
112 Удобный повод увидеть еще один удивительный эффект, связанный на сей раз с семантикой питания. "И пaл'ЦЫПРOС'ъццъ К П'ИРY П'ИРОГбумaг'и]. Перед появлением "пирога к пиру" (едва ли не на весь мир), в 25-м кадрике промелькнул (при каМЕЛЬКе забытом [за бытом?]) эпизод (-воспоминание?) кормления просом какого-то цыпленка... "[...] сохраненное восприятие продолжает быть восприятием, оно продолжает существовать, оно постоянно пребывает в настоящем, оно не открывает позади нас того измерения ускользания и отсутствия, которое и есть прошлое" (Мерло-Понти 1991, 274) В свете этого неожиданного сближения может чуть "всколыхнуться" и поверхность второго полустишия, - "уЖ РОща отряхает", - (втягивая, возможно, и жертву). В связи с "медицинским дискурсом" мы искали в первой строфе соответствие сдвижной чуме, а нашли брюшную полость; при более тщательном прощупывание можно обнаружить там и еще одну болезнь: "Сосед мой пОСПЕшает"; не беремся судить - "укрепляет" эта находка "стройность" нашей концепции или "расшатывает". Важнее, что более очевидные случаи сдвигов в последних строфах остраняюще влияют на восприятие поэтической речи, или, говоря по-футуристически, - "нарушают течение обычных фраз и звуковых рядов, дают странно звучащую речь" (Крученых 1924, 28) Даже вне сдвигов, фонетически "странной" она становится, например, в последних трех стихах строфы IX. Кажется, первый ощутимый толчок неизвестного происходит в строчках, посвященных жителю берлоги. [Об образе Пушкина, разбрасывающего камни и размахивающего руками (подобно мельнице) в анегдоте Хармса см. Ямпольский 1998, 309.]
113 "[...] все пушкинское творчество есть, помимо прочего, система связей: разные произведения, разных жанров и форм, разного времени создания, от начала до конца, от края пушкинского временного пространства, вперекрест и всплошную рифмуют, объясняя, комментируя, уточняя, взаимно дополняя друг друга, - и в итоге образуют один гигантский мегацикл, по существу - один текст; но не в модном постмодернистском, а в добром старом смысле единого художественного целого." (Непомнящий 1997, 105.)
114 Летом 1843 года Пушкин блестяще играет сдвигами в письме к жене: "Сейчас приносили мне корректуру, и я тебя оставил для Пугачева. В корректуре я прочитал, что Пугачев поручил Хлопуше грабеж заводов. Поручаю тебе грабеж Заводов - слышишь ли, моя Хло-Пушкина? Ограбь Заводы и возвратись с добычею." (14 июля)
115 "[...] как обычно у Пушкина, слегка юмористичной. Это сценка в гостиной На диване, вытянув сложенные под платьем одна на другую ножки, (видны только носки туфелек), сидит девушка. Сзади нее, опираясь на спинку дивана, что-то ей говорит молодой человек во фраке. К беседе с любопытством прислушивается молодая беременная женщина, - в чепце, со сложенными руками на выступающем животе. На переднем плане, слева от них, лицом к нам стоит третья женщина; левую руку она приложила к груди, в правой - что-то держит - может быть, письмо." (Фомичев 1993, 38)
116 Ср. антропоморфные образы стиха, слога и стопы в "Домике в Коломне".
117 Ср. фрагмент монолога Свидерского из "Серой тетради" Александра Введенского: "Время - единственное что вне нас не существует. Оно поглощает все существующее вне нас. Тут наступает ночь ума. Время восходит над нами как звезда. Закинем свои мысленные головы, то есть умы. Оно восходит над нами, как ноль. Оно все превращает в ноль. (Последняя надежда - Христос Воскрес.) Христос Воскрес - последняя надежда. (Введенский 1998, 542; курсив мой - И.Л.) Обратим внимание также и на то, что превращению в ноль (ср. поэму "Граф Нулин") противостоит у Введенского хиазм поледних предложений, второе из которых, инвертируя первое ("скобочное"), обретает форму 5-стопного ямба.
118 Эпиграф к Гаспаров & Смирин 1997 дает к этому месту пародийную параллель из "Илиады" в переводе Гнедича (66)
119 Написанные строки двенадцатой октавы подобны утверждению, которое "включало бы в себя противоречие, так как сам факт, что он (в нашем случае - лирический герой "Осени" - И.Л.) сделал утверждение, свидетельствовал бы о том, что оно ложно" (Малколм 1993, 38)
120 Ср. фразу из Послания апостола Павла: "Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так-что могу и горы переставлять, а не имею любви - то я ничто."
121 И хотя - метафорически - это происходит в финале любого стихотворения, "Осень" написана так, что читатель, если он осознал этот факт, - поневоле хочет сказать "Царство ему Небесное..." Впрочем, вряд ли уместно говорить такое о лирических героях стихотворений. Можно попробовать по-другому: "Жаль, искренне жаль! А ведь совсем недавно - каких-нибудь девять октав тому - как был хорош, как обаятелен, когда рассказывал нам о зимних забавах!.. Как искал слова, чтобы нам про осень объяснить... Какая искренняя озабоченность дышала в словах его - как донести, не расплескав, свои чувства, свои мысли. До нас донести..." Так или иначе - после "Куда ж нам плыть?" читатель попадает в точку, откуда только и становится возможным судить: были ли слова покойного (например, по поводу снега) пустым - "дар напрасный, дар случайный" - бряцанием в кимвал звенящий (и тогда тут как тут староста лукавый и сопутствующая ему чернь), или это бряцание было подчинено - каким-то отнюдь не прямым способом - решению задачи, поставленной в последнем из Псалмов. [Это же касается "болтливости" автора "Онегина" в лирических отступлениях-дивертисментах и стиховедческой увертюры "Домика в Коломне".] И эта точка - ничто иное, как еще одно воплощение сдвига: стихотворение еще не закончилось, а голос лирического героя уже умолк... Трудно воспроизвести сегодня в личном психологическом опыте первозданность читательской реакции на финал "Осени". Но ведь и когда мы ходим в театр смотреть трагедию о принце Гамлете, ни у кого из нас нет надежды на happy-end. Любые суждения об "Осени" (и ее исследования) будут с момента своего рождения причастны этой точке, локализованной в сдвиге двенадцатой октавы.
122 "Слово "стих" по-гречески значит "ряд", его латинский синоним "versus" (отсюда "версификация") значит "поворот", возвращение к началу ряда [...]" (Гаспаров 1993, 5) В "Осени" - стих, строфа, и любая композиционная единиця "устремляется" к концу и к началу в одно и то же время; возможно, напряжение, связанное с осуществлением этой коллизии и делают ее, "быть может, самой полной в мировой лирике "моделью" космоса, в котором существует человек" (Непомнящий 1984, 433).
123 В принципе, аннигиляция могла бы произойти уже на стыке строф VI и VII, но версификационный гений Пушкина ее предотвращает; мало того - преображает в новое качество поэтической гармонии: "Унылая пора! очей очарованье!"
124 "В настоящем, в восприятии, мое бытие и сознание не различаются. Не потому, что мое бытие сводится к моему знанию о нем и ясно мне представляется, - напротив, восприятие непрозрачно, оно пускает в ход сенсорные поля и примитивные способы сообщения с миром, лежащие ниже уровня осознаваемого, - но потому что здесь "обладать сознанием" ничем не отличается от "быть в..." и мое сознание экзистенции совпадает с действительным актом "экзистенции". (Мерло-Понти 1991, 284)
125 "Отмечу, что последние час или два перед смертью могут быть действительно названы часом. Это есть что-то целое, что-то остановившееся, это как бы пространство, мир, комната или сад, освободившиеся от времени. Их можно пощупать. Самоубийцы и убитые у вас была такая секунда, а не час? Да, секунда, ну две, ну три, а не час, говорят они. Но они были плотны и неизменны? - Да, да." (Введенский 1998, 544) Это опространствование времени обессмысливает единицы хронометража - минуты, дни, годовые времена и века, опять-таки возникающие в игровом и комическом контекстах рядом рядом с жителем берлоги: "[...] Медведю, надоест. Нельзя же целый век [...]" (Нет ли в выделенном курсивом сочетании созвучия со словом человек? Слово, указывающее на центральный в художественном мире "Осени" образ, трудно себе представить в ее лексиконе; во всяком случае, необыгранным в смысловой и фонетической ткани. )
126 "Наша ошибка состоит в том, что там, где мы должны видеть "первофеномен", мы ищем объяснения. То есть там, где нам следует сказать: эта языковая игра сыграна." (Людвиг Витгенштейн; цит. по Малколм 1993, 129)
127 "Но театр (в пушкинском случае поэзия - И.Л.) тоже зло, так как он представляет собой высшее равновесие, которого нельзя достичь без потерь." (Арто 2000, 126).
128 В пушкинской системе ценностей эти правила заданы, а не даны. В этой связи приведем два фрагмента - "философский" и "литературный" - из романа Константина Вагинова "Козлиная песнь": "А в самом последнем вагоне ехал философ с пушистыми усами и думал: "Мир задан, а не дан; реальность задана, а не дана". Чиво, чиво, - поворачивались колеса. Чиво, чиво... Вот и вокзал" (Вагинов 1991, 61). "Художнику нечто задано вне языка, но он, раскидывая слова и сопоставляя их, создает, а затем и познает свою душу. Таким образом в юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка. И оказалось, что этот поднявшийся от языка мир совпал удивительным образом с действительностью." (86) А два стиха из стихотворения "Южная зима", способны, как нам кажется, пролить новый и неожиданный свет на целое "Осени": "Сочувствие к обманутым растеньям// Надулось в нем, как парус возросло".
129 Николай Евреинов, например, считал "Повести Белкина" монодрамой в прозе.
130 Ср., например, вирши Михаила Собакина (1720 - 1772): "выслушав мой вопРОС, СИЯюща в свете:/ кто тя украсил, яко розу в лете?/[...] хищника проКРЫ Мраком ум и раны тело/ не имея успеХА Ни вакое дело,/ [...] ибо ТЫ СЯ ЩАстливу и в сем быти чаешь" (цит. по Бирюков 1994, 79)
131 "Мотив - это феномен филиации (расщепления) некоторого семантического поля (комплекса, "пучка" мотивов), выступающего в роли субстрата, и одновременно - противоположный феномен агглютинации (слипания) субмотивов, выступающих субститутами данного мотива" (Тюпа 1996а, 53) Анализ и исследование диалектики филиации/агглютинации можно осуществить традиционными методами, оставаясь в пределах строфических, стиховых и композиционных закономерностей (иногда и сдвигов); текст пушкинской "Осени" позволяет проследить механизм и закономерности слипания/расщепления семантических полей на уровне слова.
132 "[...] в ряде случаев пушкинисты действительно сталкиваются с шифрами, по разным причинам применявшимися в разное время Пушкиным. Это дает повод подозревать недосказанность там, где на первый взгляд всё очевидно" (Постнов 2000, 6) Далее исследователь ссылается на работы Р.Г.Шульца. Причина обращения поэта к "сдвигологическому" шифру (коду) в "Осени", как нам кажется, в чисто эстетическая. ["Цель поэзии - поэзия - как говорит Дельвиг (если не украл у кого)."]
133 "[...] прежде чем записать окончательный вариант трудно давшейся коды: "И первый солнца луч, и первые морозы/ И отдаленные Зимы седой угрозы," - он (Пушкин. - И.Л.) займется достаточно прорисованным пейзажем: холмы, куст, протока - и у крутого берега лодка..." (Фомичев 1993, 49) Существенно, может быть, что на одном из рисунков в рукописи конфигурация лодки воспроизводит в миниатюре изгиб линии берега. Об связи слова ритм с греческим глаголом ??? (теку) см. Харлап 1985, 14-15. Там же говорится о значимости движения вверх - вниз ("арсис" и "тезис") в связи с представлением о ритме (15 - 29) в концепции Гераклита.
134 "Этот язык образов и иероглифов, который служит Вышней Мудрости во всех ее откровениях роду людскому, который так близок языку Поэзии и который в нашем теперешнем положении напоминает скорее метафорику сна, нежели прозу яви, - не является ли он истинным языком высших сфер? Нам кажется, что мы проснулись, а на самом деле мы погружены в тысячелетний сон или хотя бы в его дальние отголоски, в которых мы улавливаем разве что несколько отрывочных и темных слов Божьего языка, подобно тому как спящий улавливает речи окружающих." (Г.Г. фон Шуберт; цит. По Деррида 2000, 131)
ЛИТЕРАТУРА:
Сочинения А.С. Пушкина цитируются по:-
Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений в 10 томах, http://www.rvb.ru/pushkin/
-
Пушкин, А.С. Рабочие тетради: В 8-и томах. Т. V, PD838, Санкт-Петербург - Лондон, 1995.
Арто 2000:-
Арто, А.Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра.Санкт-Петербург - Москва, 2000.
-
Барт, Ролан. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
-
Бирюков, С. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М., 1994.
-
Бирюков, С. Теория и практика русского поэтического авангарда. Тамбов, 1998.
-
Блок, А.А. Собрание сочинений в 6-и томах. Т. VI, М., 1971.
-
Бобринская, Е. Теория "моментального творчества" А.Крученых // Терентьевский сборник -II, Москва, 1998, 13-42.
-
Вагинов, К. Козлиная песнь: Романы. М., 1991.
-
Вайскопф, М. "Вот эвхаристия другая..." Религиозная эротика в творчестве Пушкина // НЛО, № 37 (3/1999), 129-147.
-
Введенский, А.И. К о л о к о л о в. Я бы выпил еще одну рюмку водички// "...Сборище друзей, оставленных судьбою": В 2-х тт.Т. 1, 1998, 539-547.
-
Гаспаров, М.Л. Русские стихи 1890-х - 1925-го годов в комментариях.М., 1993.
-
Гаспаров, М.Л., Смирин, В.М. "Евгений Онегин" и "Домик в Коломне" Пародия и самопародия у Пушкина // Гаспаров, М.Л. Избранные труды, том II. О стихах.М., 1997, 66-75.
-
Гаспаров, М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика.М., 2000.
-
Давыдов, С. Туз в "Пиковой даме" // НЛО, № 37 (3/1999), 110-128.
-
Деррида, Ж. О грамматологии.М. - Paris, 2000.
-
Ермаков, И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. М., 1999.
-
Жаккар, Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб, 1995.
-
Иванова, Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992
-
Измайлов, Н.В. "Осень" (Отрывок) // Стихотворения Пушкина 1820-1830-х годов. История создания и проблематика. Л., 1974, 222-254.
-
Илюшин, А.А. Русское стихосложение. М., 1988.
-
Кобринский, А. "Без грамматической ошибки..."? Орфографический сдвиг в текстах Даниила Хармса // НЛО, № 33 (5/1998), 186-201.
-
Крученых, А. Кукиш прошлякам. Москва - Таллинн, 1992.
-
500 новых острот и каламбуров Пушкина.Собрал А.Крученых. Издание автора. Гvавлит. (Москва) №23289, 1924.
-
Липавский, Л. Исследование ужаса // "...Сборище друзей, оставленных судьбою": В 2-х тт.Т. 1, 1998, 76-92.
-
Лотман, Ю.М. Две "Осени" // Лотман, Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
-
Лощилов, И.Е. "Телесная топография" "Повестей Белкина"// Циклизация литературных произведений: системность и целостность. Кемерово, 1994, 31-44.
-
Лощилов, И. Пушкинская "Осень": "медицинский дискурс" и поэтика сдвига // Крещатик, № 1 (11), 2001, 324-334.
-
Лощилов, И. Пушкинская "Осень": "медицинский дискурс" и поэтика сдвига // Материалы Второй научной конференции преподавателей и студентов, Новый Сибирский Университет, 5-6 апреля 2001, Новосибирск, 83-87.
-
Мерло-Понти, М. Временность. Глава из книги "Феноменология восприятия"// Историко-философский ежегодник - 1990, М., 1991,271-293.
-
Непомнящий, В. Космос Пушкина // Непомнящий, В. Поэзия и судьба. М, 1987, 391-447.
-
Непомнящий, В. Время в поэтике Пушкина: Тезисы// Ars interpretandi: Сборник статей к 75-летию профессора Ю.Н.Чумакова. Новосибирск, 1997, 99-107.
-
Ницше, Ф. Избранные произведения. Книга 2: По ту сторону добра и зла.М., 1990.
-
Малколм, Н. Состояние сна.М., 1993.
-
Misler, N. Pavel Filonov and the Organic Esthetic // Школа органического искусства в русском модернизме. Studia Slavica Finlandensia, Tomus XVI/ 2, Helsinki, 1999,37-49.
-
Постнов, О.Г. Пушкин и смерть: Опыт семантического анализа. Новосибирск, 2000.
-
Смирнов, И.П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
-
Терентьев, И. Г. 17 ерундовых орудий // Сумерки лингвистики: Из истории отечественного языкознания. Антология.М., Academia, 2001, 21-26.
-
Тырышкина, Е.В. Эстетика русского литературного авангарда (1910-1920-е гг).Новосибирск, 2000.
-
Тюпа, В.И. Тезисы к проекту словаря мотивов // Дискурс, №2, 1996, 52-54.
-
Тюпа, В.И. Эстетический анализ художественного текста // Дискурс, №2, 1996, 95-103.
-
Faryno, J. Семиотические аспекты поэзии Маяковского // Umjetnost Rijeci, God. XXV, Izvanredni svezak: Knjizevnost - Avangarda - Revolucija. Ruska knjizevna avangarda XX stoljeca. Zagreb 1981, ss. 225-260. Также: http://avantgarde.narod.ru
-
Фомичев, С. Графика Пушкина. СПб, 1993.
-
Харлап, М.Г. О понятиях "ритм" и "метр" // Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития. М., 1985, 11-29.
-
Хармс, Д.И. Горло бредит бритвою. Глагол, 1991, №4.
-
Хлебников, В. Творения. М., 1986.
-
Холшевников, В.Е. Что такое русский стих. Мысль, вооруженная рифмами: Поэтическая антология по истории русского стиха.Л., 1884, 5-37.
-
Худошина, Э.И. Жанр стихотворной повести в творчестве А.С.Пушкина ("Граф Нулин", "Домик в Коломне", "Медный всадник"): Учебное пособие к спецкурсу.Новосибирск, 1987.
-
Чехов, М. Литературное наследие: В 2-х томах. Т. II. Об искусстве актера. М., 1986.
-
Чумаков, Ю.Н. "День Онегина" и "День автора"// Вопросы поэтики литературных жанров: Сборник статей. Вып. 2, Л., 1977.
-
Чумаков, Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб, 1999, 333-346.
-
Шапир, М. Metrum et rhythmus sub specie semioticae // Даугава, № 10, 1990, 63-88.
-
Шатин, Ю.В. Диалектика взаимодействия поэтического языка и художественного текста в культуре// Философские проблемы взаимодействия литературы и культуры: Межвузовский сборник научных трудов. Новосибирск, 1986, 13-27.
-
Шатин, Ю.В. Художественная целостность и жанрообразовательные процессы.Новосибирск, 1991.
-
Шатин, Ю.В. Минея и палимпсест // Ars interpretandi: Сборник статей к 75-летию профессора Ю.Н.Чумакова. Новосибирск, 1997, 221-233.
-
Шатин, Ю.В. Текст как самоописание жанра: "Домик в Коломне" А.С.Пушкина,
-
Шифрин, Б. От "сдвига" к "морфемной волне": де-фикс-а(к)ция Александра Горнона // Кредо, № 3-4, 1993, 32-34, Тамбов.
-
Эйзенштейн, С. Чет - Нечет. Раздвоение Единого // Восток - Запад: Исследования. Переводы. Публикации.М., 1988, 234-278.
-
Эткинд, Е. Симметрические композиции у Пушкина. Париж, 1988.
-
Юнг, К.Г. Конфликты детской души.М., 1995.
-
Якобсон, Р.О. Работы по поэтике, М., 1993.
-
Janecek, G. Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurizm. San Diego, 1996.
-
Janecek, G. Alexej Krucenych's literary theories. Russian Literature, XXXIX (1996), 1-12.
© Игорь Лощилов, 2000-2003.
© Сетевая Словесность, 2002-2003.
