Публикация
Евгений Клейн
К Р О К И
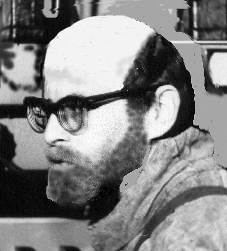 Ушедший из жизни в этом году Евгений Клейн не удостоился ни панихиды в Доме кино, ни некролога в прессе, только министр кинематографии почтил его память в недлинной правительственной телеграмме, которую прочли на домашних поминках, где собралось несколько коллег с такой же перспективой. При жизни Женя был небезызвестным кинокритиком, довольно регулярно печатался. Правда, в последние годы он не публиковал ничего: говорил, что сохранил старую привычку писать по заказу, а заказывать перестали. У него не было большой славы. Он не оставил книг (если не считать брошюры, изданной еще Бюро пропаганды советского кино), статьи в "Искусстве кино" появлялись не каждый год, в сборниках тоже участвовал редко. Тем не менее, его знали в провинции по метким оценкам в рецензиях, среди коллег его считали способным, умным, знающим, но скучноватым и сероватым - без блеска. Я знал его еще со ВГИКа. Дружбы не случилось: Женя был человек замкнутый, к тому же, как мне кажется, всю жизнь подверженный нескольким сильным комплексам (один из них, - кроме еврейского, - комплекс провинциала). Мы общались в молодости часто, в зрелости нередко, в последнее время регулярно. Мне нравились его статьи, а после некоторых казалось, что еще немного - и Женя станет критиком номер один. После его смерти я перечитал их - мнение не изменилось. Он не кривил душой, а она была понимающей, тонкой, деликатной, ранимой, - и это сквозь сдержанность видно. Ушедший из жизни в этом году Евгений Клейн не удостоился ни панихиды в Доме кино, ни некролога в прессе, только министр кинематографии почтил его память в недлинной правительственной телеграмме, которую прочли на домашних поминках, где собралось несколько коллег с такой же перспективой. При жизни Женя был небезызвестным кинокритиком, довольно регулярно печатался. Правда, в последние годы он не публиковал ничего: говорил, что сохранил старую привычку писать по заказу, а заказывать перестали. У него не было большой славы. Он не оставил книг (если не считать брошюры, изданной еще Бюро пропаганды советского кино), статьи в "Искусстве кино" появлялись не каждый год, в сборниках тоже участвовал редко. Тем не менее, его знали в провинции по метким оценкам в рецензиях, среди коллег его считали способным, умным, знающим, но скучноватым и сероватым - без блеска. Я знал его еще со ВГИКа. Дружбы не случилось: Женя был человек замкнутый, к тому же, как мне кажется, всю жизнь подверженный нескольким сильным комплексам (один из них, - кроме еврейского, - комплекс провинциала). Мы общались в молодости часто, в зрелости нередко, в последнее время регулярно. Мне нравились его статьи, а после некоторых казалось, что еще немного - и Женя станет критиком номер один. После его смерти я перечитал их - мнение не изменилось. Он не кривил душой, а она была понимающей, тонкой, деликатной, ранимой, - и это сквозь сдержанность видно.
Мне достался его архив. Вернее, та часть, которую он не успел уничтожить. Архив большой, но, по первому взгляду, небогатый: много начато, ничего не кончено. То, что я успел посмотреть внимательно, обещает несколько глубоких и свежих идей, которые мне, может быть, удастся оформить.
А пока - несколько страниц из тетради, которую Женя вел несколько десятилетий и до последних дней. Тетрадь эта никак не озаглавлена. Название публикации дал я.
Ноябрь 1997 года
**************************************
Кинематограф обомлел,
Когда явился Лиев Мэл.
Чтобы постигнуть "Письмена",
Не обойдешься без вина.
Юрий Скобло,
журналист (экспромт на банкете по случаю премьеры фильма Мэла Лиева "Письмена" в Доме кино).
**************************************
Я - фаталист: играю все, что предлагают.
Зураб Мустаденагич,
артист
(на обороте фотографии в актерском отделе студии).
**************************************
Он не интеллигентный, он ителлигибельный.
Валерий Степанов,
режиссер
(из неопубликованного интервью - о герое его фильма "Нина")
**************************************
Два любовных треугольника образуют изящную фигуру, напоминающую звезду Давида.
Людмила Байрак
(из рукописи рецензии на фильм "Год в Нью-Йорке"; в опубликованный вариант не вошло)
**************************************
Каждый фильм - маленькое открытие, каждая критика на него - большое покрытие.
Илья Левин,
режиссер
(из выступления в Доме кино на премьере фильма "Горловка, день 00")
**************************************
"Магическое воздействие искусства", - в этой уже ничего не говорящей формуле на самом деле заключено и происхождение искусства и его функция. Дж. Дж. Фрэзер пишет:
"Анализируя принципы мышления, лежащие в основе магии, мы обнаруживаем, что они сводятся к двум: первый принцип гласит, что сходное происходит от сходного, что следствие - подобно своей причине; согласно второму принципу, предметы, которые однажды находились в длительном контакте или общении между собой, продолжают действовать друг на друга и тогда, когда это общение прекратилось. Мы назовем первый принцип законом сходства или подобия, а второй - законом общения или заражения".
На основе первого закона произведения искусства создаются максимально приближенными к реальности, на основе второго существует теперь уже неосознаваемая, но генетически заложенная в искусство вера: на реальность можно воздействовать через искусство. От генетической связи с магией невозможно освободиться - ни последователю "искусства для искусства", ни "постмодернисту", ни циничному ремесленнику - все они на самом деле в меру возможностей и способностей создают модель, похожую на реальность, но измененную так, чтобы реальность изменить.
Омар Серов.
"Александр, Николай, Татьяна". Неизданная рукопись
**************************************
Некий Р.Иммер написал про меня в екатеринбургском альманахе "Реклама" в глубокомысленной статье о псевдонимах "Семена. Имена":
"У меня было сорок фамилий" - к этому заявлению героя песни Высоцкого мог бы присоединиться Степан Шилдт. В пору учебы во ВГИКе он много ездил в командировки "Комсомольской правды" и подписывал в ней очерки и репортажи псевдонимами: Иван Покорный, Михаил Малов, Иван Чуднов, С.Великобританский, Иван Лондон, Э.Отрезной (здесь только достоверно известные мне псевдонимы). Как видно, Степан Карлович очень осмысленно подходил к выбору подписей - по ним можно проследить эволюцию его самоощущения как мастера комсомольского пера и отношения к жизни, которую оно (перо) активно описывало. Первый (непоставленный) сценарий Шилдт подписал: Иван Иванов. Потом уже назвался Максимом Островским и под этим именем стал известен как сценарист, а затем как американский русский сочинитель авантюрно-политических романов-бестселлеров".
Свой первый псевдоним я не помню. Может быть, потому, что выдумал его не я, а дежурный редактор "Московского комсомольца". Так случилось, что на одной газетной полосе собрались авторы с явно еврейскими фамилиями, и моя была самой отъявленной. Когда я прочитал свой материал за чужой подписью, я воспринял его как бы со стороны и даже увидел этого "Сидорова" (повторяю - не помню, какая именно была подпись), похожего на меня, но все же не себя. Это показалось мне забавным, и я решил, что теперь буду писать только под псевдонимом. Я изобрел игру: сначала воображал себе некоего журналиста, искал для него подходящее имя, а уже потом писал статью как бы его глазами, мозгами и пером. Поскольку я печатался тогда много, у меня вскоре накопилось персонажей (включая и женские) на повесть или роман, и они стали героями моего первого политического триллера "Голубой", действие которого происходит в журналистской среде. Имена, как полагается, я поменял, и только главному герою отдал свой настоящий псевдоним - Иван Покорный.
Честно, говоря, игру мою никто не заметил. Поначалу я пробовал вырабатывать для каждого "персонажа" свой журналистский стиль, но его потом все равно причесывали в редакциях, и выходило, что редакторам приходилось немало возиться с моими статьями - а кому это понравится? Стали меньше заказывать, реже посылать в командировки. Пришлось совершенствоваться в общепринятом едином стиле, которым в те годы писали все, будто во всех газетах работал один человек под разными псевдонимами.
Думаю, никто из моих друзей, знакомых и редакторов не знал всех имен, которыми я подписывался, но никто не удивлялся, что у меня несколько псевдонимов: тогда считалось, что чем больше у издания авторов, тем это солиднее, а если в одном номере сходилось две статьи за одной подписью, это было просто недопустимым. Я слыл самым плодовитым репортером и журналистом - и уже по этой причине обязан был иметь в запасе набор подписей, чтобы не обременять излишней заботой своих кормильцев - работников редакции.
Поиск псевдонимов был еще одной игрой. Я брал газету, разворачивал ее и тыкал пальцем. Во фразе, в которую попадал, я выбирал слово, наиболее подходящее для фамилии моего очередного придуманного героя. Иногда, наоборот, персонаж рождался как воплощение найденного псевдонима. Так было, например, с Иваном Покорным. Я увидел человека, который борется со своей фамилией как с предопределением судьбы, при том, что он вовсе не супермен, а действительно похож на покорного и всетерпимого исполнителя чужой воли. Не могу сказать, что это был автопортрет - скорее, человек, которым я тогда хотел бы быть. Этим именем я стал подписывать самые удачные статьи, но тут у меня появился замысел романа - и я сразу перестал пользоваться псевдонимом Покорный, так что он на газетных полосах просуществовал недолго.
Из письма Максима Островского от 3 июня 1997 года
**************************************
Из Даля: "Зеркала бывают: прямые, плоские; вогнутые, впалые, полые, уменьшительные; выпуклые, горбатые, толстые, увеличительные".
Искусство, разумеется, не зеркало.
Но и не увеличительное стекло.
Это система зеркал.
Зеркала (в том числе и увеличивающие, и кривые, и отображающие) изготавливаются и шлифуются всякий раз заново и штучно - у каждого своя конфигурация и фокус. Жизнь выглядит в них подчас прихотливо и странно или плоско и уныло, но никогда не повторяет реальность один к одному.
Теперь созданная художником система зеркал проецирует отраженную в ней жизнь на нас - зрителей. Но мы - не плоский экран, а система зеркал. Каждый шлифует их в меру выпавших ему талантов, способностей и навыков, получая в результате либо набор плоских стекол, либо сложную систему художественного (образного) восприятия.
У каждого поэтому - собственное, индивидуальное, неповторимое восприятие.
Теперь воспринятая нами от художника образная реальность направляется в жизнь - и через решения, действия, поступки эту жизнь изменяет.
Теперь эта измененная реальность предстает перед художником... Это сфера.
Внутри которой - направленные друг на друга системы зеркал.
Константин Трубич.
Из письма от 7 января 1966 года.
**************************************
Не претендую на научность, но кое-что о снах знаю. В течение многих лет (можно даже сказать - десятилетий) я собираю записи разговоров со своими знакомыми (самыми разными людьми) о сновидениях. Меня главным образом интересует не содержание снов, а процесс сновидения: как человек засыпает, как он переходит в сон, какие образы, изображения, картинки, кадры он видит на границе сна и реальности, ощущает ли, что видит нечто иное, чем в обычной жизни, может ли управлять сновидением (например, прервать его)...
Когда я начинал собирать свою коллекцию, я искал подтверждение где-то вычитанной гипотезы, что во время сна сознание покидает тело и путешествует в ином мире, - скажем, потустороннем, или в космосе. Особенно меня интересовал наивный вопрос о том, как сознание (или, если хотите, душа) безошибочно находит оставленное тело, например, в тех случаях, когда человека внезапно будят.
Постепенно у меня родилась другая гипотеза, которой я нашел много подтверждений.
Сон больше всего похож на процесс сочинения фильма: изображения, звуки и слова здесь еще не совсем определенны, как бы эскизны, ситуации вяжутся друг с другом слабо и случайно, сюжет идет рывками, и не всегда одна часть согласуется с другой, персонажи видятся пока неясно, напоминают знакомых и близких, но в то же время не совпадают с ними полностью, в событиях присутствую я сам, но как бы это и не совсем я...
В снах все мы - киносценаристы и режиссеры, художники, артисты... Нам всем это дано, но лишь на первой стадии творческого процесса (как утверждают все писатели и художники, самой приятной) - стадии зарождения замысла. Просыпаясь, мы занимаемся своими - другими - делами, а не фильмом, сочиненным ночью. И часто просто забываем о нем.
Павел Котов
Запись телевизионной беседы, не попавшей в эфир
**************************************
… сновидения говорят фотографиями, написанными картинами, рисунками, рукописями или даже кинофильмами (Карл Густав Юнг. "Психологическая типология" (1929). Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М., 1994, с. 83 - Примечание Е.Клейна
|